Владимир Руделев. Зима в Тамбове
Тамбов, 1995. – 144 с.
Недавно Владимиру Руделеву исполнилось 60 лет. Он родился 8 июля 1932 года в Ельне, Смоленщине, а в 1937 году семья была вынуждена переехать в Рязань – на родину матери и отца поэта. Для В.Г. Руделева древний Рязанский край стал великим открытием, вечной темой рассужддений, вдохновенных взлетов. Серебряные клады, ржавые мечи, гробницы, соседство дома матери поэта с великим творением Якова Бухвостова Успенским собором, крепостной вал – все это крепко врезалось в память и сердце, превращалось в дивные образы. Владимир Руделев не мог не стать поэтом, и он не мог не стать ученым с огромным диапазоном исследовательских интересов. Его поэтическое творчество поело и крепло на глазах его друзей-поэтов Евгения Маркина и Евгения Осипова (это в Рязани!) и затем в Оренбурге – Ильи Елина. Научным вдохновителем В.Г. Руделева был тоже поэт, а заодно и филолог-русист (и угро-финнист!) В.И. Лыткин (как поэт он выступал под именем «Илля Вась»). Научные труды профессора Руделева известны за пределами России, стихи – пока что только начали пропинать себе дорогу.
Сборник «Зима в Тамбове» – средоточие стихов, которые можно было бы назвать философскими раздумьями, если бы в них была только одна философская тема. Но они еще политически остры – их было рискованно читать в недавнее время. Стихи Руделева преисполнены также возвышенных чувств, радостного и грустного ощущения мира, близкого человека, любимой женщины.
Называя сборник стихов «Зима в Тамбове», поэт подчеркивает свою отчужденность от столичных течении, литературных лидерств и политических интриг. Автор – принципиальный провинциал, и эта его провинциальность – лучший способ сосредоточиться, возвыситься. Само же понятие «Зима» – символ очищения, избавления от суеты и – то же возвышение чувств, мысли, вообще – жизни.
Надеемся, что новое собрание стихов Владимира Руделева придется по душе читателям.
1…
«Такая
русская зима
на улицах Тамбова…
НАЧАЛО ЗИМЫ
…И этот вешний,
а не зимний воздух –
от клейких луж,
от листьев,
от машин.
Он грустный и загадочный,
как возраст,
до коего я вот уж и дожил!
И это ощущение театра.
Песочный свет.
И синева кулис.
Моя голубоглазая дикарка,
тогда и ты на сцене появись!
И в роще рук,
навстречу нам простертых,
в дожде аплодисментов
и бравад –
друзья мои,
бессмертные актеры,
пусть повторят свои слова
стократ.
ЗИМА В ТАМБОВЕ
За нее темные пироги –
положенная лепта.
Па сердце горькие долги
несбившегося лета.
Но подожди сходить с ума,
попробуй выжить снова.
Такая русская зима
на улицах Тамбова!
Ее клянут, ее метут
мятущиеся люди.
А если так случится вдруг,
что этого не будет?
А если вдруг сплошная тьма
и ничего другого?
Такая светлая зима
на улицах Тамбова!
В глазах от солнышка рябит,
а снег пушист и розов.
Вихрастым вихрем с крыши сбит
какой-то древний лозунг.
Теперь история сама
свое напишет слово.
Такая русская зима
на улицах Тамбова!
*
Какая ночь! Исторгнутые недра.
Коробки звезд, похищенных у неба.
Гигантских склянок синеватый яд,
где светляки на огненных булавках
горят, горят
и засыпают сладко
и, мертвые, еще горят, горят.
Как жить мне в этой сатанинской жути,
где князи тьмы
с огнем предерзко шутят
и с неба звезды дивные крадут?
И мало их уж на свободе, робких,
а те, что в размалеванной коробке, –
давно на экспорт пущенный продукт.
СКОРЫЙ ПОЕЗД
1
И снова в синеве морозной
сугробы древние окрест,
и подо мною шум колесный,
как колокольный благовест.
То по расхристанному полю,
то по возвышенным местам
идут березы к богомолью
просить защиты у Христа.
Но выступают клином острым,
держа мечи наперевес,
древнеязыческие сосны
наперерез, наперерез.
В сугробах памяти не роясь,
себе и Бог и господин,
бежит, как время, скорый поезд,
оставив солнце позади.
И даже мыслью не поспеть
за этим яростным движеньем.
Так можно землю пролететь,
не возымев к ней отношенья,
не ощутив ее причуд…
Остепенясь и успокоясь,
остановись, безумный поезд,
но только там, где я хочу…
2
На стародавней остановке
(названье вспомнить – тяжкий труд)
друзья, припрятав поллитровки,
толпой в мое купе войдут.
Что ж хуже?
Битых склянок груда
иль разбитных безумцев злость?
Да, это удаль. Только удаль.
Нам большее не удалось.
Но разве мы в толпе безликой
иль потеряли слова дар?
Бывает удаль невеликой,
но кто ж велик и не удал!
Я знаю, как рассчитай хитро
ваш каждый день и каждый час,
безалкогольные пииты,
слегка похожие на квас.
А мы, чтоб было пламя ярким,
пойдем и наломаем дров
Пью за тебя, Евгений Маркин,
и за тебя,
Сандро-о-о!
3
И снова в синеве морозной
сугробы древние окрест.
И умолкает шум колесный,
как архаичный благовест.
И Божья Мать зовет скорбящих
к своим распахнутым вратам.
Лесин ремонтных смольный запах
и золотых свечей огонь.
И всем, кто был в парях и завах,
Архангела суровы и гори…
СНЕГИРИ
На деревьях припущенных –
алые, как фонари,
восседают отрешенно
пилигримы снегири.
Словно райские гостинцы.
Для кого ж такие тут?
Мир поди как упростился,
а они живут, живут!
Что для них нейтрон и радий,
грозных ЛЭП слезливый ток!
Вот и мы, на птичек глядя,
поживем еще чуток.
*
День мал и летом и зимой,
и некогда взглянуть на небо.
Сосед мой, новомодный нэпман,
с утра – как живчик заводной
Пыхтит его автомобиль,
помощник латаный и облый.
Дом всякой всячиной набит –
коврами, книгами и воблой.
Пронизан ужасом вещизма
и мой полуреальный быт:
в век «зрелого социализма»
одна душа — не дефицит!
И я пощусь, как сатана,
за толикой питья и корма.
А в небе дивная луна горит,
как Спас Нерукотворный.
А за пленительной луной –
деревьев серебристый невод.
День мал и летом и зимой.
И так пора взглянуть на небо.
МУЧКАП
Мучкой белого снега
припорошен Мучкап,
мукой белого хлеба,
мудрой прочностью хат,
смутной памятью каторг
и бросков напролом…
На красивых мучкапках
и капрон и нейлон,
и меха дорогие,
и на пальцах брильянт,
и – на смерть, на погибель –
в госбанке мильярд.
Город скукою скручен –
сотня вёрст до небес.
Плохо школьники учат,
плохо возят навоз.
Неохватной Расеи
обсевок, лишок –
плохо пашут и сеют,
жуют хорошо!
Ни полосочки света,
ни надежды пучка.
Мучкой белого снега
припорошен Мучкап.
*
Сине-розовый сочельник
Обливные главы изб.
В аварийно-частных щелях
елки синие зажглись.
Елки красные прильнули
к окнам ярко-золотым.
Бог не продан за алтын –
это нас тогда надули!
Красноречье говорилен –
миру красная цена.
Только он не авариен,
если вера в нем цела.
СВИРИСТЕЛИ
Племя дивных, звонких птиц
над воспрянувшей рябинкой –
шоколадных чаровниц:
то ли Майя, то ли Инка?
То ли люд еще ничей –
в молчаливой перебранке
хором розовых свечей
на бесчувственной Лубянке.
Раскололся Храм Времен
в ожидании и злости.
К нам в отравленный район
залетели Рая гости.
А ведь нам уж не дано
стать хрущевским сытым раем,
потому что мы давно
свиристелями летаем.
Я уходил на левый берег.
Снег был пушистее руна.
И красноперая луна
па леске дергалась, как жерех
Я шел по белой колее,
черня правительство за косность
туда, где начинался Космос –
от Двориков в десятке, лье.
Я спотыкался и скользил,
забыв завет «Екклесиаста»,
И звезд сиятельная каста
казалась шайкою верзил,
державших под руку генсека.
В ушах гудел магнитофон –
осточертевшая кассета.
И под ногой – застывший ком…
СУГРОБ
То ли гроб черный, то ли грот.
Безобразен изжеванный рот.
Жизнь прожил, а прожил ли впрок
Сколько грязи в тебе, игрок!
Л души белоснежной – нуль…
Я ботинком в бок его пнул.
Я пинал его – так. Не знал.
А внутри – белизна, белизна.
ЖЕМЧУЖНИКОВ
Люблю тамбовские особняки
в них жили интересные особы:
затянутые галстухами зобы,
засыпанные пудрой синяки.
Люблю эти глазастые дома.
Их чердаки Никифоров облазал,
пронзая глазом сундуки, как лазар,
высвечивая лики и тома.
Давно прошел их позлащенный век,
прогрызли дыры лиходейки крысы.
По иногда вдруг выйдет человек,
он на извозчике прокатит рысью.
Остынет выдох слежанных перин,
споткнется о себя порожек скользкий
И загласит златистый Питирим.
И отзовется серебром – Никольский.
Осыплет липа золотой парик,
о лед сребристый зазвенит подкова.
И улыбнется голубой старик,
слегка похожий на Козьму Пруткова.
Все, что было, показалось мелким
и банальным – точно смертный грех.
Эти душу режущие метки,
эти комплексы – почти у всех.
Каплет свет слезами через щели.
Каплют слезы – светлые уже.
Грустно смотрит голубой священник
на рублевских женщин и мужей.
Сколько лет платил ордынцам дань я
в нудном лязге позлащенных пут,
к светлому ручью исповеданья
не проведав свой короткий путь.
Засыпая ночью на ухабе
после ух демьяновых и вилл,
сколько снов я дивных испохабил,
сколько добрых слои – не сохранил…
Голова под пеленою счастья,
руки – крылья, сердце не болит.
От исповеданья до причастья
время самых искренних молитв.
2…
«Хочу,
чтобы снег
вернулся в апреле…»
*
Когда в конце зимы повеет
весна медовым ветерком,
я к дому этому тайком
иду по тающей аллее.
Овеян тайной этот дом –
от старых степ до строгих ставен,
он весь из снов моих составлен
и ожидания потом,
из лиц в пролистанном альбоме
и их подобии наяву.
Как будто жил я в этом доме
и до сих пор еще живу.
И ночью розовато-лунной,
то бесшабашны, то строги,
щучат но лестнице чугунной
мои беззвучные шаги.
Почти касаются окна
люминесцентные березы.
Как ночь весенняя плотна!
Как воздух несказанно розов!
ВЕСНА
И. Осипову
Весна прошла в коротеньком пальтишке,
на звонких серебристых каблучках.
Ручьи, голубоглазые мальчишки,
бросали вслед ей солнышко в пучках
Они любили преданно и честно –
не то что залежавшийся сугроб,
который вздумал вдруг найти невесту,
да помоложе, покрасивей чтоб!
Но даже ветреный красавчик ветер
на этот раз не вырвал своего.
Весна любила каждого на свече,
а значит – не любила никого.
Мы знали: это ранняя весна
Но как нежна ее голубизна.
СНЕГ В АПРЕЛЕ
Съедаем по-свински
дары общепита мы.
Сугробы – как сфинксы
с носами отбитыми.
Всю зиму в них лили
помои украдкою.
Зачем они были,
осталось загадкою.
Как вероученья
недавних угодников.
В душе моей черни
на сотню субботников.
Не верю весне их –
с подвальною прелью.
Хочу, чтобы снег
вернулся в апреле.
Пускай – понарошку,
в морщинах проталин,
как светлое прошлое,
почти ирреален.
Мольбою и вечем
и вечным укором.
На солнце под вечер
блестя мельхиором!
*
Лунный лик в подушках тучных млеет,
недоступный, непонятный, злой, –
в драгоценном звездном мавзолее.
Лучше б просто в матушке сырой…
Поминали б молодца былиной,
и гостей бы звал Тунгусский лес.
Вот уж и обратной половиной
завладел неугомонный бес.
Острые серебряные метлы
каждый вечер все метут, метут.
Только и спасение – что мертвый,
что давно переведен на трут…
БЛАГОВЕЩЕНИЕ
Хоть бы капля живого света.
Говорят, что Звезда взорвалась.
Если только верна примета,
будет дьявол властвовать всласть,
созерцая бесстыдный коллапс
отпылавших очей и душ.
Или та звезда раскололась,
что алкала из алых луж?
Скоро новый повесят флюгер –
будет косно шуршать года.
Люцифер, как клетчатый любер,
приготовился бить в морда’.
*
Фонтаны. Подъемные краны.
Заборов бесчисленный строй.
И терем со стенкой обманной.
И бьющий в ладоши герой.
И шумное сонмище это,
в антрактах роскошный буфет.
От слов, что с амвона пропеты,
а уловимый эффект.
Но главное – даже не блиц
восторгов, вмещенных в регламент.
Шеренга властительных лиц –
обойма патронов в нагане,
сырых облаков череда,
на речке плывущие льдины.
Глядит утомленно срединный,
а правый юлит без стыда.
А правый – блестит электронно,
а правый – до дьявола брав.
Попробуй свали его с трона,
когда он и предан и прав,
когда он в тебе поселился,
торчит, как язык изо рта!
Такие довольные липа –
и лбов вознесенных квартал.
*
Майский день горяч, несносен,
но кругом – веселый бал.
Золотые нити сосен –
струны солнечных цимбал.
В глубине лесных угодий
кто как может свиристит.
Для березовых мелодий
серебрится белый стих.
То разнузданный, то строгий,
света синего изъян,
смерч танцует на дороге,
как коричневый цыган.
ЦНА
Подальше от цианистой заразы
и месива прокисших тел,
не наобум и все же и не сразу,
бесцельно – просто пока цел,
я ухожу в целебное Приценье –
в свеченье бриллиантовых стрекоз
и белых бабочек круженье.
и кипенье полосатых ос.
Тула,
где, не задавлена плотиной
и не отравлена пока,
сверкает Цна –
старинною полтиной.
Моя бесценная река!
Убогих стен печальная привычность,
банальных сцен обидная циничность –
все за плечами,
как фабричный дым.
От света струй, от цвета трав ли –
идет навстречу мне Журавлик,
как босоногий пилигрим.
*
На западе бурая дымка,
но чист розоватый восток.
Где в памяти круглая дырка,
золотится веры росток.
Какие мы круглые, злые,
с сердцами лгунов и невежд,
мы в пенно-коричневой лыве
читаем обрывки надежд.
*
Пройдя по дороге пыльной,
потом по дороге скользкой,
потом по дороге жесткой,
поднявшись па косогор,
я подошел к собору –
был ли то храм Никольский
или Преображенский,
не знаю до сих пор…
Ограда давно рассыпалась,
ворота настежь раскрыты.
На дряхлую паперть влезли
юродивые кусты.
Окна были запаяны,
памятники забыты!
Но каждую из глав собора
еще осеняли кресты.
Лезли под самое небо
железобетонные глыбы.
Внизу протекала дорога,
красная, словно кровь.
Месяц, похожий па дьявола.
кривился ржавой улыбкой.
С аэродрома рвался
в небо огонь и гром.
Все подавляло церковь –
громадой, огнем и гневом.
Но стояли еще ворота
и чуть виднелись кресты.
Мы могли еще бросить дом свой
между землею и небом
и войти на ветхую паперть,
юродивые – как кусты.
3…
«Встали ракеты
и звезды,
и лишь соловьи,
соловьи…»
СОЛОВЬИНАЯ НОЧЬ
На верхней полке устроюсь,
усну – горделив и велик.
И вдруг остановится поезд
среди соловьиных кулиг.
У времени жестких щеток
в плену мой громкий транзит
Но древний взволнованным щекот
до самого сердца пронзит.
Глядя на звездную крышу,
в мечтах застыл не дыша
и слышу, отчетливо слышу,
как в теле ликует душа –
загубленная по крохам
и сплавленная в Аид…
Встречный давно отгрохал,
а наш – все стоит, стоит.
Встал неподвижной мишенью,
как ни сигналь, ни маши:
нет никакого движенья,
кроме движенья души!
Дивные летние грезы!
Сны золотые мои.
Встали ракеты и звезды,
и лишь соловьи, соловьи…
СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕЧЕР
Парчовое солнце и елочный дождь –
серебряной капителью.
Таких сочетаний от жизни не ждешь,
веря в первичность материй.
Играет в лоджии малая дочь –
все стерпишь шалуньи ради.
А солнце ступает,
как царственный дож –
в венецианском наряде.
Озеро.
Солнце.
Нити дождя.
Вид этот редкий не вечен.
И, видно, только любя и щадя,
дарят серебряный вечер.
*
Осыпается сирень,
как небесная отрада.
Пылких горлинок свирель
Петухов лихих триада.
Любит звонких крикунов
сердце тихого расейца.
Гласность.
Воля.
Как в кино.
И ни капли фарисейства!
И не культ, и не застой,
и не брежневское чтиво.
В душу горклою листвой
рвется газ слезоточивый.
В памяти кровавый след
от бесстыдно лгущей дряни
Вновь на крохотном осле
в град въезжает Назарянин.
*
Мне грустно от мысли несвязной –
какой, невозможно сказать.
Как чистый божественный праздник,
был жизни недолгий азарт.
Без пагубной дырки озонной
и с цнинскою светлой водой.
Но дивно-хрустальные звоны
уж я не слыхал над собой.
Иду в управленье за чеком,
чтоб сахару взять или мыл.
Я счастлив, что был человеком.
Вот только когда – позабыл!
СИНИЙ ПРУД
Дождь. Вечер. Словно перламутром
отсвечивает синий пруд.
Прекрасно чистым быть и мудрым.
И не такой уж это труд.
Застыли ивы в тихих позах.
Скользит тропинка, как змея.
О критинических угрозах
забудет мир, забуду я.
Но даже если вес исполнит
погруженный в пучину Змей,
он, как овес растет, не вспомнит,
и как ликует соловей,
и есть ли что-нибудь за Тындой,
была ли Обь, Арал, Иссык…
И станет ржавчиной постыдной
любая мысль, любой язык.
Все это было.
Чистым утром
мы раздавили гадкий трут.
Дождь. Вечер. Синим перламутром
отсвечивает дивный пруд.
МЛАДШАЯ ДОЧЬ
Обсевочек мой милый,
василек!
Мне дорог твой
и первый шаг
и лепет
Тебя готовы задушить,
как плевел,
залить и растоптать,
как уголек.
Как недалек
мир векового блата,
корыстной дружбы,
деловых звонков,
ортодоксальных дураков
и тех,
кому дана ума палата
и ни гроша таланта
и души.
Мой сорнячок!
расти на них,
души
квадратно-гнездовое пустоцветье.
Пусть дивных цветиков твоих созвездье
бесцветный мир осветит, всполошит.
ФИТОФТОРОЗ
Скажут:
время – отличный лекарь,
переборет инфаркт и грипп..
Теребит суховейное лето
овсяные макушки лип.
В мешанину небес и газов
и натянутость проводов
тянут руки обрубки вязов –
костяки голубых китов.
Кто-то золото копит тщетно,
кто-то бегает по утрам.
Многозвенный и многоцветный,
мир теряет улыбку гамм.
Отрекшись от слез и распятий,
он жует тошнотворный кляп.
Фитофтора солнечных пятен
разъедает Божественный взгляд.
ЗОЛОТОЙ ВЕЧЕР
На веранде старушки сидят за лото –
досуг убивают емкий.
Еще продолжается миг золотой,
но Солнце – у самой каемки.
Па лице –
смертельный недуг.
Круглые плечи усталы.
И тучи под мышки его ведут,
как дурдомовские санитары.
От светила давно отказались врачи,
прогнозируя вечный вечер.
И вдруг
зажглись золотые лучи,
как венчальные свечи.
У каждой капли вечерней росы
цвет золотисто-чанный.
Дети босы.
Звуки нежны.
Люди нужны и дружны.
Крылья растут за плечами.
Золото бьет из-под чуба.
Господи! Что за чудо!
КОРОВА
Я шел за водой в Горелое,
печалясь на летний зной.
Корова, как угорелая,
настырно неслась за мной.
Зачем этой дуре надо
бежать незнамо куда?
Апатично звенело стадо –
без пастыря, без кнута.
Встала она – без имени.
На развилке польных дорог.
Грязь на обвислом вымени,
выдернут правый рог.
Гляжу в лицо бедолаге я –
уж лучше бы лечь от пуль.
Она ведь пока в концлагере,
а мы – отменили культ.
Без травушки. Без бычка.
Без ласковых рук хозяйки.
Вот бы теперь молочка –
без заменителей всяких!
А еще бы любви без лжи
и жизни без лишней боли.
А культ пока еще жив,
раз коровам не дали воли.
*
Сквозь толщу лип блестят огни –
их потихоньку тушат.
Напоминают мне они
сгорающие души.
А там, где пенный небопад
и неземные версты,
там души вечные парят,
как золотые звезды.
Гляжу в окно, боясь дышать,
а день был тих и ладен.
В кроватке спит моя душа,
набаловавшись за день.
*
Листопад в конце июля –
перья пташек золотых.
Месяц ломаной пилюлей –
К Божьим маковкам впритык.
Славно жить вот так притычно!
Не стесненно, не легко.
В тесной клетке петь по-птичьи,
мыслью виться далеко.
Зажигаться вполнакала,
как попало – для толпы.
без Арала, без Байкала,
без озонной скорлупы.
В чехарде служебных лестниц,
обозленным, словно тать,
и изломанным, как месяц,
все надеяться и ждать…
ФИНИШ ЛЕТА
Памяти Е. Маркина.
Паучьи финишные ленты,
оборванные у лица
Бежит испуганное лето,
словно невеста от венца.
Везли приданного обозы
и лес гостей – стена к стене.
Нарядно-белые березы
как хор Рязанский в Скопине.
Он грянет громко и народно,
да, видно, песенка не та.
И пропадает ненароком
тумана синяя фата.
И обернется время грубо:
оставив щепки и мазут,
бухие зэки-лесорубы
гостей в камазах развезут.
И будем верить по картинке,
как были к счастью мы близки.
На бересклете паутинки
как свадебные образки.
*
Сто раз, в рубашке льдов или нагой,
Земля усердно отмывала тело,
н ступа с космонавткою Ягой
над кроманьонцем глупеньким летела.
И разбивался мрамор Атлантид.
И разливалась дум великих косность.
И развивался усредненный тип,
готовый покорить метлою Космос.
Мой вечный мир, тебя я не предам.
Я буду мудр, как Гегель или Гоголь.
Мне усредненный ум на то и дан,
чтоб я твоих основ не жег, не трогал
не поднимал и гордыне тяжких шор
п гладил псов властительных по шерсти,
чтоб бодро утречком па службу шел
и, кончин день свой, засыпал в блаженстве,
чтоб был от блага своего благой
и пел псалмы и гимны оголтело.
И чтоб сто раз, в рубашке иль нагой,
Земля усердно отмывала тело.
4…
«А за окном
– октябрьская лазурь
и купола
берез позолоченных…»
*
Вот и осыплась береза
и стала жалкою, как веник.
Ценить мы начинаем поздно
живое золото мгновений.
С надеждой трепетною в небо,
когда приспичит вдруг, глядим мы,
а там уже остервенело
стирает ветер облик дивный.
Слетают золотые нимбы,
и рвутся огненные кольца.
В усталости необъяснимой
глаза закатывает солнце.
Желанье вечного досуга –
начало краха, между прочим.
Давно уж убрана посуда,
а мы сидим и лясы точим.
ОЧЕРЕДЬ ЗА САХАРОМ
Какой художник вдохновенный!
Ему и Брейгель не пример.
Сто мертвяков пригнал мгновенно –
из стольких рас, эпох и вер.
Какой неповторимый скульптор!
Что Малофеев иль Роден.
Сто жалких душ эпохи культов
вмиг изваял вдоль потных стен.
И, словно режиссер великий,
всем дал и позы и слова,
ребячьи ангельские лики
в колоде карт растасовал.
И взмыла дымная комета
голодной памятью блокад.
И, как пятьдесят лет назад, –
довольная ухмылка метра.
ТАНЦУЮЩАЯ СОСНА
Дожди, туманы и заботы.
Недобрых туч тяжелый горб…
Сосна танцует у забора
который день, который год.
В коротких проблесках осенних
копна нефритовых колец.
Ее пускал богач Асеев
в свои феерический дворец.
Заводчику канкан – до финн:
сукно в Рассказове гниет.
Но та божественная фея
была похожа на нее.
И был конец –
тревожный, тяжким,
безжалостный, как Страшный Суд.
Смолкают под вечер костяшки,
ко сну гуляющих несут.
Пустеет дворик санаторным,
алеют кончики аллей.
Сосна танцует у забора,
и Время теплится над ней.
*
Ты только пережил грозу,
и на душе обид так много черных.
А за окном – октябрьская лазурь
и купола берез позолоченных.
Оставь своп задымленный кабинет,
где ты сегодня не постигнешь истин.
Найдешь к потерянному счастью след
в неистовом паденье листьев.
Что проку, возмущаясь и крича,
корить несокрушимого собрата.
Белеет месяц – тихая свеча
на браной скатерти заката.
ТЩЕТНОЕ ЖЕЛАНИЕ БРОСИТЬ КУРИТЬ
Тупые, бездушные тучи.
И молний безмолвный оскал.
И две сигареты на случай,
когда наступает тоска.
Когда осязаешь опасность
начертанного на роду
и ночи беззвездной неясность
сгущается ясностью дум.
Когда разрываешь окружность
привычных догматов и фраз,
душой постигая ненужность
всего, что так нужно сейчас.
Когда ощущается гнилость
извечных, нетленных основ
и меркнущей жизни немилость
сменяется щедростью снов
Когда остается далеко
давящийся гневом Содом…
Не надо надрывных упреков.
Ты счастлив в несчастье своем.
Ты жив ожиданием смерти
вещей, что отжили свой век.
А дыма курчавые тверди
от кресла вздымаются вверх.
ТУМАН
Туман. Коричневая жижа.
Фигурки щуплые берез.
Не видно крыш. Не видно звезд
И многого чуть-чуть поближе.
Попробуй – вырази восторг,
поди – любимую найди-ка!
На всем великом и простом
густая шапка-невидимка.
И то, чем дорожил вчера,
встает во тьме исчадьем ада.
На сердце горькая чадра
темно-коричневого чада.
О! Как легко сойти с ума,
смирившись с вечностью обмана.
В очах туман. В речах туман.
И нет нам жизни без тумана.
Как нет ее без губ, без щек
без ощущения простора…
Густые брови светофора.
И волчий, огненный зрачок.
В ЛАБИРИНТЕ ВРЕМЕНИ
Как странно быть живым,
когда тебя уж нет.
Как странно говорить,
когда ты нем и косен,
когда из узких щелей
бьется синий свет,
а всех твоих друзей
уж разметала осень.
И ты летишь один,
последний желтый лист.
Ты в жутком ужасе
от страшных наблюдений:
мир остается жить,
крепыш и оптимист,
без цвета яблони
и запаха сирени.
Не выдохся твой мир!
Он и не это мог,
коль надо где-то
было сложностей убавить.
Несется конницей
по зеркалу дорог
его косматая пылающая память
Быть может, этот мир
от спячки воскресят
и выведут на свет
из камер ржавых буден.
Быть может, снова будет
яблоневый сад.
Какая радость в нем,
когда тебя не будет.
Как жуток, осень,
твой призывный свист!
Как гнусны, небо,
твои подлые ужимки.
Мир, догони меня!
Я твой опавший лист.
Прочти мои багровые прожилки.
*
Осенью,
как и в любое время года,
влюбленные теряются, как школьники.
И попадают пароходы
в магические треугольники.
Но дух таинственный Бермудья
гнетет, как мокрая погода.
И тихо умирают люди
осенью.
Как и в любое время года.
Но
осенью нас осеняет разум,
не уместившийся на полках логик.
И память, словно Стенька Разин,
гуляет на челнах пологих.
Осмысленность кругов модальных –
бессмысленнее криков пьяных.
У брегов, неприступно дальних,
мы топим глупых персиянок.
О ослепительная осень!
Небес встревоженных озерность.
И звон надломленных колосьев.
И яблонь томная покорность.
О топь пленительных утопий!
О топот пагубной свободы!
И мы златых кумиров топим
осенью,
а не в любое время года.
5…
«Бежала
женщина во тьме –
и тьма
за женщиной бежала…»
ЖЕНЩИНА
Из Нальби
Как по разодранной кошме,
по крутизне Земного Шара
бежала женщина во тьме –
и тьма за женщиной бежала.
Сбивалась на пути кошма
безжалостной тропой кошмара.
Неслась за ней каменьев тьма,
и тьма деревьев вслед бежала,
и ноги жалила трава,
и след вослед пугал и цыкал.
И, раздвоившись, словно циркуль,
во тьме неслась ее тропа.
Но сколько может!
Сколько может
продлиться этот древний мрак?
Устало дерево. И что же –
упало, превратилось в прах.
И попраны трава и камни.
И затерялся след в ночах.
И в пепел превратились ткани,
что были на ее плечах.
Остановись!
Остановись,
ты, превращенная в мгновенье!
Как сказочное дуновенье,
ты сердца моего коснись
на самой грани тьмы и света –
ту грань я не преодолел.
Тебе расскажет сердце:
это –
я камнем за тобой летел.
Я был и деревом и следом,
травою путался в ногах.
Сто раз я поднимался летом,
зимою превращался в прах.
Я гнал тебя, слепой и грешный,
все растерявший в кутерьме.
И только не был – тьмой кромешной
Поверь, бегущая во тьме!
*
Дождик мелкий и небо хмурое.
Суета повседневных дел.
Ты – усталая. Я – понурый.
Каждый встречи иной хотел.
Крепла воля и зрело мужество.
Ждал пас суд и жестокий бои.
Отчего же так, слишком дружески,
мы раскланялись нынче с тобой.
Не сломили они нас саблями
и угрозами не запугали.
Просто так. Белоснежные яблони
расцвели, подвели и опали.
«ОДНАЖДЫ… ТЫ…»
«Однажды»? «Ты»?
И почему не «дважды»?
Не «я»? Не «мы»? Не «трижды»? И не «он»?
Случайно мой усталый телефон
твой тихий голос подарил однажды
Не выходя за рамки строгой темы,
ты говорила начерно. Во сне.
И золотом отсвечивали степи
И таял свет малиновый и окне.
И оставался невечерний свет в нас,
и звездною надеждой плыл и млел
Но слов окаменелая газетность
вдруг припаяла намертво к земле.
Мне так хотелось бросить на пол трубку
и телефон условностей сломать…
Сверкали одноцветные слова,
как этот сон,
что так некстати в руку.
Но даже он,
как начат, так и кончен –
привычной композиции овал.
Я никогда тебя не целовал.
Красивая моя! Спокойной ночи
ИСЛАМЕЙ
Я хотел бы стать кабардинцем –
в кабардинской шапке родиться,
чтоб гулять в горах мне зарями
и носить бешмет с газырями,
чтоб гордиться дымною саклей
и звенеть искристою саблей,
чтоб в мой век нейтронно-машинный
полюбить дикарку с кувшином.
Вот она танцует па сцене –
ее муж не любит, не ценит.
Он носатый, круглый и лысый.
Ее дети ждут за кулисой.
Пахнут молью бурки, бешметы
у худрука боли несметно:
снова зря работала касса.
Апа-ляй-ля-ля-ля-ля. Асса!
ЗНАМЕНКА
Вы живы будто бы. Я видел вас недавно
и юной красотой до одури был пьян.
Я еду в Знаменку, Наталья Николаевна,
на вашу чистую речушку Кариан.
Маман у зеркала наклеивает мушки,
папа безумный где-то бродит у ручья.
И вами не огончарован бедный Пушкин.
И вы – тонюсенькая, вы еще ничья.
Ваш старым барский дом.
Он разве без пристроек,
напоминающих курятники?
Давно
в них ребятишки паши учатся без троек,
на переменках буйных лазая в окно.
На дисциплину слезно жалятся старушки
Директор-юноша проводит педсовет…
А вы – опять ничья. У Черной речки Пушкин.
и тянется за ним горячий красный след.
Протрем глазеночки-люнеточки – и дальше!
Да можно ль вдовствовать с такою красотой?
Что литераторша? Теперь вы – генеральша.
И мудрый хор Благих вас объявил святой.
Что, Дмитрий Дмитриевич, запылали ушки?
И лысинка мокра. И еле-еле жив.
Не бойся, старый врун: ее любил наш Пушкин
и значит в святости ее не будет лжи.
*
Колдуя, жду тебя и тревоге
и в правду подсыпаю ложь.
Но знаю: ты уже в дороге.
И ты найдешь меня, найдешь.
Так мне подсказывает опыт,
не обретенный до поры.
Шаги твои.
И стук. И шепот.
И страсти вызревший порыв!
Но не любовь в своем раю нас
дурманит сладким духом poз!
Моя несбывшаяся юность,
это запоздалым взнос!
Твои потухшие зарницы,
давно проигранные в зернь.
И лица древние друзей
как книг забытые страницы…
Слегка напоминая ту,
что затерялась в звездной пыли
ты так похожа па мечту,
которую во мне убили.
И жадно жду тебя ночами
забросив книги и дела.
И было так уже в Начале,
когда ко мне ты не пришла.
*
Вечерний призрак дня
на розовом фасаде.
И красных два огня –
как палачи в засаде.
А сзади –
вещий Босх
и Хиросимы тени.
Дарует щедрый Бог
еще одно мгновенье:
твоих признаний миф
и поцелуев миро.
Даруй весь этот миг!
И подавай полмига.
СОНЕТ №1
Несладко жить, когда тебя не любят,
а любят – так уж ты живой едва…
Вчера ласкалась рыжая Калуга,
сегодня бьется черная Нева.
Сейчас она догонит у стоянки
и шлепнет нецензурные слона
точь-в-точь как та стажерка-негритянка,
с которой ты в гостях потанцевал.
Ты с ней играл – до примитива грубо,
балуясь словом и кривя душой.
А после обозлился и ушел
И ночевал в гостинице у друга.
С утра Литейным рвал па главпочтамт
И снова слов окаменелых штамп.
СОНЕТ № 2
И снова слов окаменелых штамп.
Но ты жива – и это наслажденье.
Так сладко от тебя освобожденье,
а плен – такая дивная мечта.
Добром не завершится мой роман:
мы друг дли друга вовсе не годимся.
А вечер – фиолетов, как Кандинский,
что и реализме чуточку хромал.
И я! И я хромаю в реализме,
стрелою фиолетовой лечу,
чтоб в фиолетовой стране причуд,
счастливые, мы за руки взялись бы
Когда-нибудь и ты меня предашь?
Не предает один лишь Эрмитаж.
СОНЕТ № 3
Не предает один лишь Эрмитаж…
А мой Театр – без чувств и без извилин!
Беспомощный чудак Басилашвили,
вам Монфлери устроил инструктаж?
Антрактов нет. И нет Дебержерака,
чтоб БДТ уставший разогнать.
(«А ты попробуй «Кафедру» сыграть
иль что-нибудь из нынешнего брака!»)
Я ухожу. Прости меня, артист.
Иду по темной, вымершей Фонтанке.
А по душе царапаются танки
и просятся десантники пройтись.
Искусство и любовь не терпят фальши.
И я иду. Иду. Все дальше, дальше.
СОНЕТ № 4
И я иду. Иду. Вес дальше, дальше.
Безлесый Невский – синий от огней.
Аничков мост. Отдан скорей! Отдай же
души моей стреноженных коней!
Промчусь но перламутровому небу,
из золотого родника напьюсь…
(«Напьешься – минус, а промчишься – плюс.
Пройди, алкаш! Живее. Левой! Левой!»)
Как я ошибся, подойдя тайком
к дворцу, краснеющему так карминно.
Не лучше ли б пройти с улыбкой мимо,
увидев несгорающий Содом?
Любимая! Прости мои ошибки.
Ни с гневом, ни с презрением – не шикни!
СОНЕТ № 5
Любимая! Прости мои ошибки,
не остуди моих последних чувств.
Всю эту ночь на пишущей машинке
тебе я нежные стихи стучу…
Стучит сосед, почесывая пузо:
мол, спаи, пора, мол, сам я – из бичей!
Стучит родная, пламенная Муза
(отнюдь не злейшая ил стукачей!).
А может, бросить этот сор вселенский,
от поэтом подавшись в дворника?
Рождественский, Высоцкий, Вознесенский!
Планида наша дюже не легка.
Но разве кто-нибудь из вас, поэты,
моей любимой посвятил сонеты?
СОНЕТ № 6
Своей любимой посвятив сонеты
И голод сублимаций утоля,
по части чувств не получу за это
измученного, падшего рубля.
Напротив, зная слабость мело, ловко
умея с чувством юмора поддеть,
уйдет с презреньем от певца плутовка,
наградой за желание не петь.
По если только так должно случиться,
тебя я не посмею обвинить:
души твоей серебряной финифть
от копоти моей души чернится.
Поэт, остерегайся черных фраз:
их скажешь – и они в делах тотчас!
COНЕТ № 7
Их скажешь – и они в делах тотчас,
ревнивые всклокоченные фразы.
Я, может, не подумал так ни разу:
слова чужие изо рта торчат.
О, этот мир, посредственный и строгий,
замочных скважин, зачерненных дыр!
Земного коллапса огонь и дым,
любимую мою не жги, не трогай!
Я в чистом разуме ее создал,
преодолев слепую сингулярность.
И, восприняв мучительную ярость,
она зажглась, как вечная звезда.
Гляжу в бинокль и вижу, как лучится.
Вот только в дверь давно уж не стучится.
СОНЕТ № 8
Вот только в дверь давно уж не стучится…
И я забыл значенье милых форм
и звуки слов, до удивленья чистых,
и глоссариях не бывших до сих пор,
как шепчешь ты, пылая, как саванна,
небесные слова и гибнешь как…
Такой тебя в сознанье рисовал я
и в каменных и в бронзовых веках.
К такой тебе через костры я рвался
и звал тебя, от боли ошалев.
А твой владелец отрубал мне пальцы.
и кровь текла рисунком по скале.
Потом рисунок обводили oxpoй,
чтоб нынче мир от восхищенья охнул.
СОНЕТ № 9
Прагматику, тебя увидев, охнуть
иль задохнуться от избытка чувств?…
Нет на земле возвышенней искусств,
чем за любимую пойти и сдохнуть.
Пусть станет счастлив грубый властелин,
татуировками украсив кожу:
с тобой он будет на земле один,
и дети будут на меня похожи.
И вспыхнет ламп малиновый неон
на скальных глыбах, превращенных в зданья.
Мир сохранит красивые названья,
которые, я выбрал для него.
По выше всех бегущих к небу зданий –
малюсенькая церковь в Теплом Стане
СОНЕТ № 10
Малюсенькая церковь в Теплом Стане
и синей марлёю обвитый лес.
Мы с другом спорили о мирозданье,
поскольку мой задерживался рейс.
Откладывался мой поспешный вылет
в небытие из бытия с тобой.
Жрецы наук, гулявшие гурьбой,
до ужаса ахроматичны были.
Им требовалось медленно плестись,
дабы признали актуальность темы.
Мир был бесцветным сонмищем частиц,
далеким от подобия системы.
По, светлым гением, как прежде, красен,
он не случаен был и не напрасен.
НЕВОСТРЕБОВАННОЕ ПИСЬМО
Какая ложь!
Все кончено.
По духу –
мы снова нищие,
копейку слов канючим.
Лазурно-золотистую Калугу
давно засыпало снежком колючим.
Дым от машин
то сладковат, то едок
Глаз светофора не от слез ли грозен?
Я за своим листком вчерашним еду,
сметенная с моей дороги осень!
Не плачь, глухонемая дверь почтамта:
смешна твоя ребяческая ревность.
Ну, что письмо!
Там только штампы, штампы
и редких слов такой несложный ребус.
Несбывшийся билетик, что на сдачу
мы покупаем у кассирш грудастых.
Дверь, ты не плачь!
А то и я заплачу
о днях, что возвратить мне не удастся…
6…
«Хочу, чтобы приняло хмурое небо неясные поэтемы…»
*
Горячий полдень. Тени нет.
И друга нет. И угнетает
пошлейшая из всех сует
пустая суета мирская.
Собранья. Речи нараспев.
И лицемерное участье.
И разговоры старых дев
на тему «Что такое счастье».
И неудачника тоска,
и мужа тяжкая обуза.
И над заборами доска
с. девизом «Все за кукурузу!»
И страх сказать. И страх любить.
И ужас трусом показаться!
Да где уж здесь поэтом быть!
Хоть человеком бы остаться.
ЖИЗНЬ ВЧЕРНЕ
А.А. Реформатскому.
Я жить не успеваю набело;
я продолжаю жить вчерне,
и незатейливая фабула
не так легко дается мне.
Со старенькими чемоданами
бегу с вокзала на вокзал.
а голова набита планами
я сроду их не выполнял.
Я даже почерка не выковал
и многою не мог решить.
Мне представлялся каждый выговор
лишь тем, что можно пережит!..
Когда-нибудь панду мечту мою
и выполню последний план.
Тогда я жизнь свою обдумаю
н даже напишу роман.
Оставлю место в нем для подвига.
для лет, наполненных борьбой.
Вот только вдруг не хватит годика,
чтоб просто стать самим собой.
Чтобы хоть раз нарушить правила,
к которым тихий мир привык.
А может, и не нужно набело.
Пусть будет чистым черновик!
ПОЭТЕМЫ
Теперь не надо просить и стучаться,
биться в поклонах о земь.
Давно не хочу, чтобы было двадцать.
Хочу, чтоб была осень.
Уже не прошу ни руки, ни совета,
не ищу ни цветов, ни локонов.
Хочу, чтоб неясные силуэты
плыли в вечерних окнах.
Не скажу никогда: «Стихов да наук бы!»
Смело кусайте и жальте!
Хочу читать зеленые буквы
в лужицах на асфальте.
Не мне добираться до чьих-то истин,
души врачевать изъяны.
Хочу, чтобы только опавшие листья
у ног лежали друзьями.
Знаю: не будет ни дома, ни хлеба.
И даже – мысли, ни темы!
Хочу, чтобы приняло хмурое небо
неясные поэтемы.
РУТИНА
Рутина
Рутина непреодолима,
как тина.
Картина
на все столетия едина
рутина.
Закрыла сельное ущелье
плотина,
но студнем лезет через щели
рутина.
В котле вздымаются, как пенки,
гены.
Не пулями пристегнут к стенке
гений.
В кривом пространстве мрут и стынут
звезды.
Взорвите мерзкую рутину!
Поздно.
На все столетия едина
картина.
Рутина непреодолима,
как тина.
ДОРОГА
«Побег мои произвел
в семье моей тревогу»
А. Пушкин
Жестка и грязна и убога –
она лишь зовется дорога!
Проклятье для знатного люда.
По мне, чудаку, она люба.
Я утром босой по дороге
пойду, наплевав на здоровье,
на счастье и на богатство
свое добровольное рабство,
на все, что кому-то осталось…
мне леса бы самую малость,
чтоб ночью вздремнуть на опушке
Со мною Есенин и Пушкин
Они ведь еще не остыли –
такие простые, простые
Не хвастается родословной
мой Пушкин,
учились мы словно
с ним в школе стафурловской вместе.
Есенин беспечен и весел,
смеется глазами большими,
как будто его не душили,
как будто он в гроб не ложился.
Четвертый – с гитарой и в джинсах
Нам дышится вольно и просто.
И снег белоснежен, как простынь
И света курчавые стружки…
Есенин, Высоцкий и Пушкин.
Все живы. Со мною все трое.
Машина с индюшечьим воем…
Ночная зловещая птица!
Успеть бы с друзьями проститься.
ФЕТ
«Я пришел к тебе с приветом…»
Мы говорим: «Не хлебом единым…»
как будто совсем его не едим мы:
за маслом в очереди не давимся
так, одною мечтою питаемся!
Сидим себе, воздыхаем эффективно
да стихи читаем – Блока да Фета.
А Фет большинство стихов своих сильных
написал на гнусных счетах керосиновых
Никто не видел трудягу Фета
с липом, расплывшимся, как конфета.
Конечно, был помещик почтой,
но не с приветом!
И в мире этом
иная от Фета
шла эстафета.
Да только мы позабыли про что.
Посмотрел бы Фет интереса ради,
как мы клянчим хлеб в буржуазной Канаде.
Поругал бы нас старый хрыч еще бы,
что мы русский лес раздаем бессчетно.
А уж нефть и газ – говорить совестно!
Нам бы Фету сейчас
Поклониться в пояс бы!
НОТАБЕНЕ
Из Яна Леончука
Поет во мне петух тоски.
И раз пропел. И два. И трижды.
Испещрены поля па книжке.
А в книжке – чистые листы.
Слова застряли в тесном горле,
как хлеб, которого просил.
Уж от тоски нет больше сил,
от ночи тягостной – тем боле.
Уж в поле йоги Петр унес,
чернеющий, как нотабене.
Сейчас в покой войдет Христос
и все расскажет откровенно.
В крови и грудь и голова…
Звенит будильник бестолковый
Учитель! Только слово. Слово!
Кругом слова, слова, слова!
Открой тоски моей исток
и тайну натабене черных.
А день разорван и зачеркнут,
как недописанный листок.
*
Пусть плохо. Но я – не иуда,
о ком пронеслось по рядам…
Мой Дом – мой хранитель, мои Будда,
тебя я во век не предам.
Мои драгоценные книжки,
Мой кот – межедворец и плут,
нахлебники грустные мышки.
Да разве вас здесь предадут!
Коснуться зашарпанных лепрой
и язвы лобзать? Боже мой!
Забыть этот воздух целебный
и сказочный сад кружевной!
И слезы чудесной иконы,
и люстры серебряный блеск,
приветливость крохотных комнат
и печки натружённый стресс?
Селитесь, рожденные кстати,
вкушайте комфорт и почет!
Придет мой товарищ писатель
и новую пьесу прочтет.
Он, правда, ступает неловко,
и мимо плывут чудеса.
Штанам помогает веревка,
волос – с Рождества не чесал.
Больная жена – как русалка,
как мельник заброшенный – сам.
Открои чудеса, моя сакля,
его золотым чудесам!
И самое звонкое чудо
зальется веселым звонком.
О Дом мои, хранитель, мой. Будда!
О кружево зимних окон!
ДОРОГА ПЕТЕФИ
Дорога Петефи – такая небольшая:
от деревеньки Шомошкэ до Шальго.
Почт прошел ее всего однажды,
чтоб нынче что знал и помнил каждый.
Цветет, как раньше, голубой цикории.
Поэт безжалостно убит был вскоре,
тридцатилетья своего не справил.
И он – не исключение из правил.
Скорее, в что и жизни исключенье
волшебных слон и духа излученье –
По смысл и радость бытия не в том что ль?
Поэт тогда, конечно, босиком шел.
И, как сейчас, в колясочках кургузых
везли крестьяне с поля кукурузу.
И так же были красны чти маки,
напоминая о последнем взмахе,
напоминая о последнем вздохе.
II в памяти уже теснились строки…
Вот в этом доме, темном, как могила,
крестьянка молоком его поила.
Вот здесь он чардаш парням спел азартно.
А дальше – путь отвесен и базальтов.
И на пути мне – пограничник строгий:
Иди, поэт! Иди своей дорогой!
ПУШКИН
Каким он был, печальный узник,
глядевший в синее окно?
Он был лучистый, словно праздник,
он был искристый, как вино.
Он был упругий и упрямый,
неистребимый, как народ:
Врала гадальщица из Рима.
событья зная наперед.
Брехала злобная зараза,
палящий дьявола привет.
То не гаданье, то угроза.
И понимал ее поэт.
Пока в туза Вайсгаупт бацал
и мелом мазал долгий кий.
Но как просил несчастный Моцарт:
«Сальери, друг мой, не убий!»
А может, это просто шутка
и Ross по-русски только «ложь»?
Неси, каурая лошадка,
того, кого уж не спасешь!
Каким он Пыл, российский гений,
глядевший в спине века?
Он, словно небо, был бескрайний
и чистый, словно облака.
Он слушал голос гнусной черни,
событья зная наперед,
неистребимый, невечерний
и вечный, как его народ.
В румянах и отвратной пакле,
то черный граф, то светлый князь
они ему швыряли Куклу.
И вырывали, осердясь.
И начинался год кровавый.
повторенный через сто лет.
Ласкал убийца белогривый
заговоренный пистолет.
А может, это только шутка
и Ross по-русски только «ложь»?
Неси, каурая лошадка,
того, кого уж не спасешь…
*
В делах и ожиданье
день прожит незаметно.
Но до заветной тайны
не пройдено и метра.
А тайна – не в ответе
на краешке страницы:
живем, чтоб жить на свете
н чтобы сохраниться!
Трагедией, не фарсом
мне станет завтра Тот Свет.
А генам снежных барсов
не жить уж и в потомстве!
Сгорают чьи-то нимбы,
глас Судии абстрактен.
Я все же сохранил бы
язык свой и характер.
И прелесть встреч случайных
И поцелуи лета…
Но разве в этом тайна?
А может быть – и в этом!
С утра – науки, книга,
а вечером – сонеты.
Талант – страшнее ига
Но тайна ведь и в этом.
Иль никакой нет тайны?
А мы – подобье кукол!
И наш театр хрустальный
блестит, как неба купол.
Все царственные роли
даны согласно дару.
Слов не хватило коли
шепчи абракадабру.
Злорадствуй неустанно
и истребляй поэтов!
Быть может, в этом тайна?
Нет, уж прости – не в этом!
Она – в поклоне клена
и в кашле кашалота,
в утопии зеленой
Виталя Мишалона.
Она в улыбке негра
и горечи араба.
И в напряженье «Нерва».
И в ясности «Парабол».
Лишь не приемлет Разум
бесцветного и злого.
И нет превыше фразы:
«Сначала было Слово…»
*
И яко приближи ся,
видевъ. градъ,
плакася о немь…
Я знал, что этот жалкий Ерихон
от груб гнусавых рассыпался н цемент.
Бессмысленно писание стихов,
когда вокруг никто не видит цели.
Бессмысленно творение молитв
тому, в кого давно никто не верит.
Кто был вчера вечнозелен, как вереск,
Сегодня бесполезен, как полип.
Я уходил из города навек,
вдали остались голоса и лица.
Как искажен твой облик, человек!
Но как прекрасны печные блудницы
*
Распалась связь времен – цепочка слов.
Для каждой мысли скованных навечно,
и что-нибудь запомнивших ослов
ждут мастера высоких дел заплечных.
По память прорастает, как трава,
она не зарастает, как трона,
и мы идем по мысленному трапу,
плывем на Золотые Острова,
не положив Проводнику на лапу.
Как он злопамятен, седой старик,
на дым похожий ядовитый Сталкер;
за серой тучей, грязной, как парик,
ему мерещатся мои останки…
Но я держу еще в руках цепочку
и вижу в золотом свеченье уз,
как хананее подал Иисус
ее живую, радостную дочку.
*
Я у врагов прощения прошу,
мне жалко их погубленные души:
схватясь за дефицитный парашют,
они себя его стропами душат.
Как мне постыл высокомерный блат,
и горький смысл возвышенных предательств,
и гадкий флирт левеющих издательств,
и вкус складских полузабытых благ.
Вертясь у Времени па облучке,
Чернобылем нсчастным облученный,
я счастлив, что пока не на крючке
у силы этой мерзостной и черной,
что я – ученый.
Может, просто шут
и эфиопской крови камер-юнкер?
Я все равно прощения прошу
у вас, засевших в неприступный бункер.
ЛАЗАРЕВА СУББОТА
Благословляю русские могилы:
они стоят рядками, как бахилы,
свои найдешь не сразу, воротись
к родимым камням и крестам согбенным,
к погостам, обездоленным и бедным.
в надежде обрести покой и связь,
в бессильном зле оборванную кем-то
с бездушной трубкой
или сладким «кентом»
и даже не курившим отродясь,
но все равно из Неприглядной Теми…
А разве он не ляжет завтра с теми,
кто сплыл, и Кривом Пространстве растворясь?..
Благословляю тайные места,
где похоронен Клюев и Рылеев.
Судьбой их горькой шаткий трон заклеив,
враг человеческий сильней не стал.
Благословляю ямы на Урале
и клетки, где поэтов тигры жрали,
в тоске кривя звериные уста.
Благословляю черные опушки
и топкие окраины, где Пушкин
не раз искал подобие креста,
где одинокая вдова молилась
(хоть на нее лилась монаршья милость) –
до смерти неутешна и чиста.
Благословляю глиняный окоп,
где моего отца настигли пули.
Другие всю войну и в ус не дули,
хватая ордена, чиня поклеп
на тех, кто не чинясь ходил и атаки
к падал под зияющие тапки,
одной России преданный по гроб.
Не верю вам, лихие ветераны,
вас не гоняли жуковы-тираны
вдесятером на неприступный скоп.
Небритые красавчики из смершев,
на нас вина за всех зазря умерших.
Да поглотит нас Пламя и Потоп!
ХИЖИНА БОМЖА
Весь лес изгажен грибниками
Поганки сбитые лежат –
как лилипутов-медвежат
сырые трупики рядками.
Пасут машины в лени гадкой
тузы в кроссовках «АДИДАС» –
себя почувствуешь поганкой
в презрительном контроле глаз.
И, пряча сношенные кеды,
сбегая – будто на пожар,
ты ищешь чаши заповедной.
И – видишь хижину бомжа.
Проходишь рядом не без риска:
не смерть ли возле этих мест?
Хозяин хижины изыскан,
он яблоко красиво ест.
Он здесь нашел исходный круг,
сосредоточен, как на мессе.
Его ведь даже нет на месте:
он – мысль твоя,
твой взгляд,
твой звук,
твои Божественные Ки’жи,
и крест на них святой – не шиш.
Но ты бежишь пустынных хижин.
как самого себя бежишь.
*
Всю жизнь я прожил в рабстве,
как басенник Эзоп.
Мы с ним в Всевечном Братстве,
где гений не иссох.
Комфортные владыки
грызите мертвь пайка,
зияющие дырки
земного потолка.
ПЯТИГОРСК
Шмаляют променады
алкашки и курцы:
им заряжаться надо,
чтоб не отдать концы.
Не все ж пиры-застолья
хоть раз промять бока!
Ведь ты – дитя застоя,
аэробика!
И я (промокла куртка)
бегу к тебе, Поэт.
Ты был противник культа,
бездарного, как бред,
несвязного, как проза,
ничтожного, как гном,
и страшного, как пропасть –
с зелено-жидким дном.
Плевать на ложь устава
стреляешь в тень куста.
Ты будешь, как Бештау,
лежать, сомкнув уста.
Твои мечты и мысли –
как цепь хрустальных гор.
А подлость до сих пор
вокруг шмаляет рысью.
Иль встанет слушать небыль
и плачется в убрус.
А ты – велик, как небо,
и светел, как Эльбрус.
*
Мы привыкли к грустным фактам,
к страху лагерей и плах.
Палача кровавый фартук
до сих пор наш гордый флаг.
И при тягостном режиме,
и когда в мозгах просвет –
на земле своей чужие.
И в земле нам места нет
*
«Не верь!», «Не бойся!», «Не проси!» –
такие, грустные аншлаги.
Их мысленно произноси,
когда замкнет ворота лагерь.
И стиснет лагерным синдром,
как голову скрутившим сидор.
Но, вольным балуясь ситром,
не виждь себя святым и сытым
Входя в торжественную дверь,
где с поднятой ручишкой идол,
не бойся, не проси, не верь!
И не давай себя в обиду,
когда тебя твой вольный цех
унизит, сломит и изгонит.
Заплеванный, ничтожный зэк,
прильни к божественной иконе.
Перед кумирами страны
в поклонах низменных не, горбься.
Не верь, не требуй и не бойся
творений гнусных сатаны.
*
Из Нальби
Безумных дней моих вода –
на дне щемящего ущелья.
Зачем я был?
Какую цель я
себе случайно загадал?
Как косен твой нелепый смысл,
скала прекрасных сожалений!
Я – леса огненного мыс.
Я – звезд присноживущих сени.
Боюсь не адовой тюрьмы,
не скрежета зубов иль червя
боюсь незнания: зачем я
на двух обрывах Дня и Тьмы.
отпущен па короткий век –
без на назначенья и развитья?..
Но кем не удостоен быть я,
с мольбой взирающий наверх?
Душа смиренна и горда –
то одесную, то ошую…
О! Как неистово бушует
бездумных дней моих вода!
7…
«Забыв, что был рожден Рекою…»
СТУДЕНЕЦ
Забыв, что был рожден Рекою,
между заборов и крылец
и унизительных помоек
петляст грязный Студенец.
Ни блеска рыб, ни всплеска весел,
ни йодных лыж тугих следов –
лишь шелест неопрятных ветел
сулит недолгую любовь.
Отыщешь в тине без труда
кривой каблук и ржавый примус.
Каким бы ни был твердым принцип,
в конце пути одно – труба!
Но в добрый час в нем звезды тают,
и он – как гордый инвалид,
что вдруг наденет нее медали
и чистой славой заблестит.
*
Дом ломают по соседству.
Видно, в нем давно не жили.
Но проглядывает сердце
среди ветхих сухожилии.
Как оно в наш век осталось,
среди зданий бессердечных?
Называлось, это сердце
русской печкою, конечно
Я давно не жил в деревне,
облепился от комфорта.
но бездушные строенья
надоели мне до черта.
Я устал от первых встречных,
от друзей бездумно-скучных,
от влюбленных бессердечных
и наставников бездушных.
Я хочу, как в бедном детстве,
ноги о траву обрезав,
возле печки обогреться
и избавиться от стрессов.
Я хочу полыни в сенцах
и коров на вольной воле.
Я хочу, чтоб было сердце
и чтоб не было в нем боли.
КОМСИН САД
Комсин сад – в тумане, в инее
Через прошлое паром
Что в твоем мне смутном имени
Вот тогда и подошел к ним сторож,
чтоб запять у вредной бабки трешку
да хватить в котельной солнцедару.
Через семь дверей общежитейских
он пропел небесную девчонку,
каждый раз воруя ее вещи.
«Ты зачем украл мою тиару?» –
«Видел я в гробу твою тиару!» –
«А запястья для чего снимаешь?»
«Молода еще носить запястья!
Чего доброго и губы красишь?
Ты смотри – у нас тут, брат, не вольно
Аморалку, понял, не прощают!»
«Слушай, дед, отдай мои
подвески!» –
«Чо орешь – как будто из дурдома.
Нот сейчас и санпропускник
отправлю –
там с тебя и все другое сымут!
Шмотки и твои в кладовку брошу.
Как захочешь – принесу обратно.
Только здесь у нас такие вещи:
навсегда забудь назад дорогу!
Десять лет иные ждут квартиру,
даже есть такие, что и двадцать».
Бабка, что жила у самой кухни,
дрыгала ногою от злорадства.
Что теперь ей кошки да собаки.
Вот она задаст девчонке перцу!
На головку, светлую, как утро,
головную боль она наслала,
на ноги – какие-то мозоли,
на руки – прыщи и бородавки,
Ей еще не это приходилось
вытворять с людьми па белом свете.
Сколько па душе ее доносов,
анонимок, жалоб и предательств.
Муж ее, который умер летом,
тоже не любил сидеть без дела:
разломал в своем поселке церковь,
сотню баб смазливых обрюхатил,
а мужей их на тот свет отправил.
Жил безбедно, счастливо и умер –
как святой, без «охов», сожалея,
что не всех угробил, кого надо.
«Больше было надо уничтожать!
так и бабка думает частенько,
если слышит, как соседка ставит
модную Эдит Пиаф пластинку,
или мужу нежно угождает,
или песенку поет чуть слышно. –
Вот порядок был – так уж порядок!
Хоть бы время прежнее вернулось!»
В длинном коридоре общежития,
светлом от сияющей тиары,
от горящих золотом подвесок,
от блестящих, как ручьи, запястий,
от диковинного ожерелья –
танцевала крохотная фея,
утренней звезды кусочек малый,
на земле невиданное чудо
(никогда таких чудес не будет),
перед тем, как этот мир покинуть.
ЛЕТАЮЩИЕ ТАРЕЛКИ
По городу бегала
Старая сплетница.
Она говорила
о летающем блюде.
Будто над Леткой
висит какая-то лестница.
а по ней слезают
астральные люди
Ходят эти люди
по Коммунальной улице,
смотрят с удивлением
на киоски и витрины,
па женщин тамбовских,
разинув рот, зарятся:
у них там, в Космосе.
ничего такого нет.
Утром улетели
на серебряной тарелке.
Пропала куда-то
и вредная баба.
Я хожу рассеянным
по Коммунальной и
Кооперативной…
Никто ничего не видел.
Никто ничего не знает…
ГОРЕЛЬСКИЙ ИСТОЧНИК
И кажется, что это не гора.
а сад –
усталой памяти осадок.
И путь к источнику так сладок,
как ощущение добра.
А если это сад, а не гора.
свечи
душеспасительным огарок,
в каких древообильных Гаграх
я видел след его вчера?
И если это мой стихийным дом,
святой
и чистый, слоимо мерный стих мой,
то почему палатки ТИХМ-а
внизу дымятся, как Содом?
А если это все-таки гора,
не сад,
зачем страстей безмозглых кратер?
К чему вам вид мой и характер,
сторожевые катера?
А в поле четом дел невпроворот.
и вот
уж соловьев за Цною стих свист.
Сосна, как свергнутый Антихрист,
вот-вот с обрыва упадет.
ДОМ № 38-г
В подъезде,
с вокзальной платформою схожей.
дуреха целуется с первым прохожим.
Воюет мальцов воробьиная стая.
Ворчунья внучонка пугает бабаем.
Две тетки
у клумбы ведут пересуды.
Молодки несут из квартиры посуду.
Истошно горланит мамзель Пугачева
На лавке томится очкарик ученый.
Прозрачная,
глазки мне строит девица –
мы вместе с ней зубы
лечили в больнице.
Крадется за голубем белая кошка…
Здесь чисто.
И тихо.
И грустно немножко.
Здесь чудно ошую и одесную
В киоске лапшу продаю!
развесную.
Но там,
у веранды,
где игры и танцы,
в костяшки играют надменные старцы.
что высохли и не погибли от скуки.
Как сучья – руки.
Как выстрелы – стуки.
А души сложил Мефистофель
в сундук их.
Но только такие
пенились когда-то.
Здесь правые только.
Здесь нет виноватых.
Ну кто?
Не дуреха ли с парнем беспечным?
Ребята?
11х алиби безупречно.
Ворчунья,
что спятила, с зятем воюя,
в те, годы была симпатичной и юной.
Две тетки
сажали цветы и деревья.
Молодки –
полгода как из деревни.
Весь мир покорила недавно пепина
Девина?
Она уж давно не девица!
И парень очкастый
не станет ученым.
И кошка останется белой,
не черной.
И старцы,
с азартом играя в костяшки,
не скажут друг другу:
«Грехи наши тяжки!»
СЛАДКИЕ КОРНИ
«Разорю житницы моя
и больший созижду…»
В Жердевке, в райкомовской хоромы,
сладко говорили о Короне –
как гнилой соломкой и водою
создавать высокие надои.
Становилась сладкой перспектива
разным категориям актива.
Хлопал всяк – усек ли, не усек ли,
прожевав вопроснику о свекле
и других пропавших всуе корме…
Горьки были сладкие те корни,
Кои по весне сто раз пололи,
да с трибуны языком мололи,
да студентов привозили – смехом!
А потом оставили под снегом…
8…
«Дерзких снов
возбужденная повесть
или окон
заснеженный вздор…»
ОРАНЖЕВЫЙ ПОЕЗД
Поэма
1
Дезрких снов возбужденная повесть
или окон заснеженных вздор…
Проплывал оранжевый поезд,
как усопший Успенский собор.
Колоколен кичливые клики
и колес монотонный канон.
Проплывали прекрасные лики,
словно облики древних икон.
Не тревожила грустная совесть,
не томила треножная страсть.
Но хотелось с мольбою упасть
под плывущий оранжевый поезд…
2
И боялся войны и смерти,
не умел цепляться за миг
Как конфеты, дарил мне мерзости
Искривленный калека Мир.
Он горел, как пожарная каска,
он скрипел жгутом портупей,
он в столовке обстал наскоро
и задорные песни пел.
Он дымил заводским окурком,
соловьем-паровозом свистел.
Он глядел беспощадным культом
с неуютных вокзальных стен.
3
Он метался, к воине готовясь,
этот смертью отмеченный мир.
И тогда, как сказку, как миф,
я придумал оранжевый поезд.
И была в этой сказке заметана,
как небес прозрачная твердь –
голубая далекая женщина.
Я не знал, что зовут ее Смерть.
В ледяном непонятном Космосе
мой корабль пока пустовал.
Я пока что любил ее до смерти,
свято веря ее словам.
4
Помню худенькие зенитки
на валу, что дождями набух.
Смерть глядела с желтой открытки
похоронной процессией букв.
А в соседнем проулке рядом,
хватанув под вечер лишок,
самострел, дымя самосадом,
с самосвала тянул мешок.
Он потом себе терем выстроил
и тюрьму для серебряных лис.
Всем, кто честно страду свою выстоял,
на валу стоит обелиск.
5
Помню злые холеные щеки
и калитки холопский щелк.
Никогда, мой друг одиноким,
не увидимся мы еще.
Над какою колымскою ямью
ты закончил свой путь святой?
Смерть ломилась к нам, вусмерть пьяная,
норовила стать на постой.
И тогда, свой сиротский пояс
затянув как можно тесней,
попросил я оранжевый поезд
задержаться у наших сеней.
6
Я в удачу не верил шибко,
дивный поезд руками обвив.
Но знакомая Пассажирка
прошептала: «Не надо! Живи!
Тебе дивное счастье светится,
словно месяц в тихом саду.
А когда-нибудь я приду.
Нам придется с тобою встретиться».
Я стоял, навсегда успокоясь,
ощутивши земную твердь.
Уплывал и мечту-круговерть
мой волшебный оранжевый поезд.
7
Я познал и славу, и почести,
и губительный смысл наук.
В комфортабельном скором поезде
завершал я начертанный круг.
И, когда уже шел по лезвию
и цеплялся за каждый миг,
как царевна Луна, Поэзия
приоткрыла свой тайный лик.
Только взять с нее было нечего,
кроме тех же банальных сцен.
Мир бесцельно круги очерчивал,
удивляясь тому, что пел.
8
Он упрямо играл в солдатики,
потеряв и разум и нюх.
Долгожители-маразматики
подносили спички к огню
И тогда, наконец опомнясь
и увидя истинный свет,
я вскочил в оранжевый поезд,
не дошедший до наших лет.
В расписание не занесенный,
он как мог тащился вперед.
Окрестил его честный народ
славным званьем «Пятьсот – веселый!»
9
Было весело в тесной теплушке,
где словцо – не для тонких ушей.
Побродяжки и потаскушки
негребливо ловили вшей.
Не бефстроганов или какао,
не самтрестовским коньячком –
отдавало прокисшим калом
и шибало аммиачком.
Выходили те, кто приехал,
оглашая матом перрон.
И решетками стиснутым эхом
отзывался седьмой вагон.
10
От него не то что там снедью
или потом живых людей –
от него отдавало смертью
самых грозных судебных статей.
И, прижавшись к холодным поручням.
уж какие сутки без сна,
в черной рвани осенней полночи –
па подножке сидела Она.
Были жуткими ее проседи
и безбрачный стеклянный взгляд.
Все равно – я назвал се Осенью,
потому что звенел Листопад.
11
«Ничего невзрачного, серого –
только леса огненный мыс.
Даже в слабых стихах Милосердова
слово «осень» имеет смысл.
По его там, конечно, немною.
У других – и подавно ноль!
Я люблю полотна Ван-Гога
с беспощадностью их хмельной.
А еще, глядя в верх платиновый
И на проседи верб да лип,
я люблю в селе Константинове
посидеть где-нибудь вдали.
12
В стропе от экскурсий лишь бы
и столовых, где водкой прет.
Круговерть оранжевых листьев –
как светил золотистых ход.
Ощущение близкой Млечности,
кружевной, как речной туман.
Я хочу прикоснуться к Вечности,
по не выжившей из ума.
И на строчках пробившейся озими
вижу нежное слово «май».
О бунтующий облик Осени!
О спокойных небес эмаль!
ДРУГ ПЛАТОН
Н.А. Никифорову
– Откуда, друг Платон, идешь один и стонешь,
вез хлопы, без осла, в разорванном хитоне?
Кто окровавил нос и осинил глаза?
Неужто так опять подзалетел в азарт,
что высек сам себя, как унтерофицерша?
ты и па ногах себя почти не держишь!
Софизм произнести – и то не хватит сил.
Философ! Мой сосед! Да кто ж тебя избил?
Кто этот гангстер, гад, пифагореец жалкий,
которого убью сейчас вот этой палкой?
Пасть разорву ему, ножом проткну живот –
екай потом такой проткнутый и живет! –
– Оставь меня, друг Антилох, ведь ночь уж.
ежели живот кому дырявить хочешь,
продырявь его скорее мне, сосед:
несчастней эллина, чем я, на свете нет.
Да что – на свете! Даже в огненном Аиде
никто печальнее меня людей не видел.
я не только ум ему под череп влил –
ведь я кормил его, и холил, и поил.
светлый Гелиос вокруг Земли крутился,
я, чудак, с его персоною носился.
Как я в бездарности талант увидеть мог!
Пусти меня домой, любезный Антилох! –
– Да кто же он, Платон? Кто оказался стервой?
– Не спрашивай, сосед! Он ученик мои первый,
и чистых слов моих и мыслей – паразит.
Коль каплю вру – пусть Зевс меня стрелою поразит!
Иду себе с ослом – и он с какой-то рожей.
«Ты друг мне, – говорит. – Но истина дороже!
Осел проклятый! Подлый хмырь! Идеалист!
Возьми идеи все свои – и подавись!
Зубрил когда-то, не жалея афедрона,
«Апологию Сократа» и «Федона».
А нынче, евнух толстозадый, сам лови
утехи глупой платонической любви!»
промолчать бы тут, а я ответил «Баста!
Зачем Сократа? Почитал бы Феофаста –
о неотесанность. И не было б беды,
когда б к вину чуть-чуть прибавил ты воды!»
Со зла с осла они меня тогда стянули,
хитон порвали вдрызг и в хлену завернули,
ногами лупцевали долго, как могли,
осла, единственного друга, увели!
Польстились на осла. Вот эллины! Вот люди!
Осел придет назад. Ученика – не будет!
Так что ж теперь мне проклинать его стократ?
Зачем же я тебя но предавал, Сократ? –
– Не плачь, сосед Платой, ведь ты один из сотен.
Поверь, не раз еще сумеет Аристотель,
чтобы в безвестности не сгинуть, не пропасть,
предать учителя и друга обокрасть.
Коль нет мозгов, то в черепе солома.
Пойдем, Платон! Осел давно уж дома.
ПОКАЯНИЕ БАРЫШНИКОВА
В золотой собор Рождества Христа
он, таясь, вошел и без свечки встал.
Расстегнул пиджак, ног смахнул рукой
будто просто так, экскурсант какой.
Только все видать – от ног до ушей
Плачет Божья Мать по мерной душе
От неслышных слов золоты уста.
И Барышников на колени стал.
– Богородице! Одигитрис!
Дай слезу на лине тебе вытру я.
Ты сынка Христа па пол опусти
и, пожалуйста, исцели, прости.
Не за то, что крал или ел в посты,
не за то, что краль уводил в кусты,
не за то, что пил или шкодничал,
что люден сгубил больше сотни, чай..
Совесть чистая? Ее нынче нет!
Ты прости, что я не сдержал обет.
…Я не пил давно, баб не звал домой,
как ее в окно увидал зимой.
Словно злая вша, завелась печаль.
Ома с мужем шла. Он дитя качал.
Выл этот москаль, знать, не из простых.
Я ее ласкал в мечтах золотых.
Только даром что ль служба, телефон?
К ней – с подарочком! Она – «Выйди вон!»
В синей кофточке. Перегладила
все мне косточки – как по радио!
В положении не бывал таком.
«Друг Кожевников! – я иду в обком.
Так и так – твою в угол чертов мать!
Ты скажи, молю, как мне бабу взять!
Все ведь есть при ней – только не моя.
Говори прямей, не лукавствуя!»
Мне Кожевников говорит: «Дурак!
Положение – не ахти уж как.
Места в камере будто нет у вас.
Мужика бери – баба все отдаст». –
«Он же главный врач, лучший в области». –
«Что ни врач – трепач, одни подлости!
В кабуре наган – шутку выкинем!
Ты по ним цель план недовыполнил.
Скоро двинем в лес. Гуси! Уточки!
Ну, а план, подлей, – знай, не шуточки!»
…Он дитя качал, убаюкивал.
Он еще не знал, что каюк ему.
К дому «воронка» пригнал в пять ноль-ноль
Он держал сынка: тут ошибка, мол.
Мне по-юному кажет партбилет.
Говорю ему: «Тут ошибки нет
В нашем деле – чтоб ни узла, ни шва…»
Я педелю ждал – и она пришла.
В той же блузочке и береточке:
мне от мужа, мол, нету весточки!
Иду будто в тир иль па ловлю щук:
«Собой заплату – мужа отпущу!»
Вижу, смотрит вниз, платок комкает.
Говорит: «Поклянись иконкою!»
Я даю обет, дверь па ключик – хлоп!
А ведь мужа нет: пустили в расход.
А и был бы пан – все равно пропал:
надо мною план – как в копях запал.
Мне б житье-бытье тоже не спасти…
Л потом ее я убрал с пути.
Стал и глух и нем с того случаи.
Вот не пью, не ем – себя мучаю.
По ночам не сплю, как больной дурак.
Умереть хочу – не могу никак…
Дай слезу па липе тебе вытру я,
Богородице, Одигитрие!
ПРИТЧА О ЛАЗАРЕ
Не за то Лазарь в рай попал,
что был беден и грудью впал,
что без сил у ворот лежал
(пес болячки ему лизал!),
что поймать языком не мог
что-нибудь из хозяйских крох,
что зимой без одежды дрог,
летом гиб ото вшей и блох.
Не за то в ад богач внесен,
что носил роскошный виссон,
что, порфирами облачен,
ел, гулял – не знал ни о чем,
пропуская мимо ушей
все, что рек пророк Моисей.
Думал: вечный он в жизни сей –
Да куда! Прогнали взашей.
На том свете увидел свет
Добрый парень. Чудак! Поэт!
Был завистлив и злобен? – Нет!
Хипповал? – От нужды и бед!
Под землей схлопотал строгач
неуемный завистник. Рвач!
Ненасытный строитель дач.
Над бедою других – хохмач!
Я к таким не питаю чувств.
Только жаль мне его чуть-чуть.
«Я пойду и перст омочу!» –
Лазарь скажет – чудо из чуд!
ОСЕННИЙ ПЕРЕУЛОК
поэма
1
Долго, долго терпела жена
шутки друга, которого, к счастью,
уж нет.
Разве знала несчастная женщина эта,
что в шутках великий поэт!
Что ей было дано впопыхах?
Красить губы и модные платья менять!
Разве было дано ей великое чувство,
чтоб сердце поэта понять.
Но была хороша и тепла она.
как золотистый июльский закат.
Ее пенное тело кипело,
как гулкие яблони в мае кипят.
В се глазках алмазных
прекрасной и страстной Вселенной
рассыпался свет.
Только разве такою
Вселенной одною
насытится жадный поэт?
Не пришьешь, не присушишь его
разговором бесцветным и длинным насчет!
нужд домашних извечных.
Чуть вечер
он изукрашенный снова грядет.
А ведь звезды когда-то сулил,
океаны прозрачных небес,
облака
А уж эти поэты, поэты!
Их можно любить,
но лишь издалека.
То ли дело – сосед Анатолий –
Толковый и дельный.
Он только и рад,
если тайно от глупого мужа
она к нему выскочит в сад.
Обещает ей шубу, сережки
и самые модные туфли купить.
Обещает на Кубу,
как только зимой назначенье получит,
свозить.
Разно знала она,
что навеки теперь
будет дом, будет мир ее пуст.
Вышел из дому друг мой бездомный,
сжимая в руках позолоченный бюст.
Один бюст драгоценный святого поэта
да собственных песенок том…
– Александр Сергеич!
Куда же теперь подадимся с тобою
вдвоем?
Все как будто вчера еще было
так мило –
и разом рассыпалось вмиг
Нам бы третьего что ли,
чтоб выпить за Толю –
за счастье в хоромах моих…
2
Как бесстыдно горды мы бываем
недолгою дружбой поэта.
Как бываем мы лживы в фальшивый
своих мемуарах при тгом.
Как, однажды обрезан небрежно
души его светлую ленту,
мы в раскаянье позднем творим
для себя золотую легенду.
Л на деле бывает все мелко,
бездарно, до дьявола плохо…
Вот стучится твои друг.
Вот он входит
и в кресло садится, поохав.
Вот он просит тебя.
Он, великий и вечный,
о малом униженно просит.
Через десять минут,
подхватив,
тебя синяя «Волга» уносит.
А еще через десять минут
ты отпустить казенную «Волгу».
Будешь чан с его Инночкой пить,
в темноте разговаривать долго.
И одета как будто она
и почти что совсем
не одета.
Что ж теряться и медлить,
когда друга старого
песенка спета!
Как он ждал тебя в доме твоем,
до утра извергая колечки.
Как ты был безобразен и мелочен,
душу ему искалечив.
Будто в луже кровавой лежал он,
тобой убиенный царевич.
«Поднимайся!» – надрывно сказал
Александр Сергеич.
3
Это улица детства.
Она безнадежно мала.
Не присесть на скамейку,
не втиснуться в крохотный домик.
С чем сюда меня снова судьба привела?
Бюст родного поэта
и признанных глупостей томик!
На душе, на губах –
сокровенный евангельский текст:
«Согрешил. Не достоин.
Уж сыном назваться неловко».
Вот, услышав мой голос,
откроет калитку отец.
Вот прикажет он матери
ставить на стол поллитровку
Утром скажет соседям,
что сын – знаменитый поэт.
Вот и книжка его.
Только пишет зачем-то нескладно…
Как-то очень недобро
мигает за шторую свет,
и соседский кобель под забором
рокочет надсадно.
Может лучше уйти
подобру-поздорову назад?
Сколько денег прошло,
а домой не прислал и тридцатки…
Говорил ему предок надменно,
вплывая в азарт
и скрестив па груди
беспощадные длани по-царски.
Мол, в твои двадцать пять
я с винтовкой летал на коне,
в рожу контре стрелял,
потрошил кулачье при комбеде.
Коль случилось такое,
что ты извозился… в дерьме,
то уж дома нам с матерью
не представлял бы комедий!
– Помнишь, батя,
как ты говорил мне когда-то:
«Дантес –
это ж сволочь, подонок.
Его б я своими руками…»
Что ж теперь ты, как он,
на российского барда полез?
Или сердце твое при комбеде
застыло, как камень?
– Ты комбедов не трогай, проклятый мерзавец!
Комбед! – он ведь, знаешь,
кем был!
И поэтов великих не трогай!
И тогда еле слышно
сказал золоченый поэт:
«Собирайся, товарищ!
Нам снова выходит дорога!»
4
Он статейку писал –
то цитаток надергав,
то расхожих словечек
побольше набрав…
Пусть!
Ведь Пушкин –
и тот не гнушался поденкой,
хоть не знал этих пошлых,
штампованных фраз.
В этот день
в дымовой суете кабинетов
слову русскому
чуть не сказали «Адью!»
Был мой друг
даже и малом великим поэтом,
и поэтому он
не закончил статью.
Но, чтоб строгий редактор
с работы не вышиб,
он решил, что сегодня
уволится сам,
и на тихую, теплую
улочку вышел.
А она выходила
в запущенный сад.
Впрочем,
как бы тот ни был
забыт и заброшен
и какие б на лавках
ни прели слова,
все равно, он, как раньше.
был дивно хорошим,
потому что мой друг
там – Ее целовал.
А другие
не здесь ли ее целовали?
И целующих разве
не целый поток!
Ничего! Ничего!
Я ведь только глоток…
Чтоб обед холостяцкий
не тух в целофане…
Был в глазах его город
бесцветен и гулок,
Суетою пронизан
И грубым весельем.
По навстречу спешил золотой переулок.
Чтоб спасти его, шел переулок Осенний.
Эпилог
Осенний переулок
среди сутулых улок.
Осенний переулок
среди гулких дорог.
Ну, что это за юмор?
И кто его придумал?
Придумать переулок
поэт лишь мог.
Не хлеще и не пуще
придумывал сам Пушкин.
Смотри, какие кущи.
А там – Содом!
Среди имен бездушных,
надменных и скучных
Осенний переулок –
твой новый дом.
Ты будешь новым Лотом.
– Где ж переулок?
– Вот он!
– Он что же настоящий?
Поверь, поэт!
Поверь в мечты и грезы,
забудь тоску и слезы.
Иди в свои березы,
которых нет.
ОСТРОВ СМЕРТИ
поэма
1
Утром, летя в самолете
из гостеприимного Н-ска,
где меня накормили рыбой,
сладкой, как воспоминанье,
где меня напоили водкой,
крепкой, как дух наш русский,
где на дороге ты мне
свой поцелуй воздушный,
дочки стыдясь, послала…
Утром, летя из Н-ска
В аэроплане шустром,
Я увидал тот остров.
Был этот Остров Смерти.
2
В кудри его густые
Вкрались седины грусти.
Молодость отпылала
Ярким костром кипрея.
Кончилась буйная младость.
В облик темно-зеленый
Вкралось ее подобье –
Хитрая моложавость.
Кротко река ласкалась
Преданною женою –
Той, что поймет и стерпит
и не уйдет из дома
ради отца иль брата…
Нежно река ласкалась,
пряди свои раскинув.
Мне показалось: это –
Пряди моей любимой.
Помнишь, твой брат-отшельник,
жизнью почти забытый,
дочку увез в машине,
нам подарив – прощанье.
Но –
недостало часа.
Дальше –
был Остров Смерти.
3
Мы пролетели низко.
Летчик, мой друг, наверно,
сделал это нарочно.
Тенью своей и ревом
парня в красной рубашке
мы озорно спугнули.
Он целовал девчонку.
Та вслед за ним
не встала:
платья не поправляя,
так па земле лежала,
как ее милый бросил.
Сколько теперь ни бейся,
ни прожигай отваги,
должного не получишь.
Знай, это Остров Смерти.
4
Я свой коньяк дареный
вытянул из портфеля.
ты мне его подарила,
чтоб я согрелся в небе,
чтоб, прикоснувшись к влаге,
вспомнил твои я губы,
запах волос осенний,
чтоб прошептал я имя…
В тайне его оставлю,
чтобы, в бумагах роясь,
близкие или чужие
не исказили смысла
звуков его тончайших.
Нет у нас в жизни места,
где бы мечты и тайны
можно было, как карты,
выложить или расставить,
Протасовав колоду.
Этот пасьянс прекрасный
ним суета заменяет,
травля пустых анекдотов
и выпивоны в подъездах.
Дома молчим, газетой,
словно крылом, укрывшись.
Только уловки птичьи
близким давно понятны.
Сами они – в секретах.
Счастье – не знать их вовсе.
Темные души наши –
все это Остров Смерти.
5
Вот он под аэропланом,
тихий, спокойный, мирный,
в добрых кудрях зеленых…
Да. Он напоминает
мне моложавого старца,
что занимался йогой
и раздавал конфетки
детям семи подъездов.
Как он был благороден,
ласков, предельно вежлив –
старец, в упор стрелявший…
Мы пролетали Остров,
тихий, спокойный, мирный.
Может, я все перепутал,
сбился в счете мгновений,
в липких узлах событий
память свою похерил,
о твой порог споткнулся,
неодолимое Время?
Как мы тебя представляем?
Линией с черной точкой.
Жердью с зарубкой счастья!
Ты же – нас обтекаешь,
льешься, как дождь осепппп.
месивом студенистым
шлепаешь под ногами.
Время!
Твое обличье
людям непостижимо.
В блеске метафор хрупких,
рифм, как лезвие, острых,
ритмов, на смех похожих
или на плач младенцев,
ты предстаешь нам… формой!
Ты же есть первосущпость,
гневный пучок субстанций.
Все остальное – форма!
Или – тот Остров Смерти…
6
Остров – спокойный, мирный,
в добрых кудрях зеленых…
Вот я его пролетаю,
вспомнив твои объятья.
Есть у нас время вспомнить
и описать в сравненьях,
ярких, как Вазорели…
Есть у нас время вспомнить
руки наших любимых –
тающие пространства,
где только миг пылали
алые ливни счастья.
Сетуем на судьбу мы,
вечности не получивши.
Нету, мол, совершенства
в этом неумном мире!
Пусть будет мир неумным,
косным, несовершенным,
как президент усопший,
что выдавал награды
сам себе трижды в месяц.
Пусть будет мир неумным,
лишь бы он был не подлым,
до помраченья жутким,
лагерным и тюремным,
каким в тог год вдруг стал он.
Год этот беспощадный –
упоминать не стоит!
А почему не стоит?
Стоит!
Ведь этот год был
черным Островом Смерти.
7
Людям привили оспу.
Оспа теперь не косит
новорожденных младенцев,
и стариков убогих,
и загулявших пьяниц.
Что ж не привили людям
против убийств вакцину?
Что же не дали в зубы
против злодейств пилюли,
против предательств капли
что же им в рот не влили?
Что ж не связали марлей
скулы сексотам скользким?
Иль твой закон, Вернадский,
действует так безупречно?
Сколько спасли от оспы,
иль от туберкулеза,
иль от холеры мерзкой
столько их надо в яму
с пулей бросать в затылке,
или топить в болоте,
пли в безвестных зэков
преображать навеки?
Сколько хирург искусный
вырежет геморроев,
сколько он глаз откроет,
съеденных катарактой,
иль пересадит почек –
столько людских затылков
будет спинном пробито.
По это только начало
жуткого Острова Смерти.
8
Мыслью сноси обожже
я ощутил тревогу.
Так, из гостей вернувшись
и переспав часочек,
в ужасе вдруг проснешься,
в страхе, с желанием смерти
смешанном наполовину.
Будешь считать обиды –
те, что нанес ты близким
в пьяном, дурном угаре –
гам, где тебя хотели
видеть простым и добрым.
Горе!
Твое подсознанье
размыло стены плотины
Сколько теперь цемента,
Камня, железобетона
нужно для исправленья.
А может,
все так оставить,
как было?
Зачем плотина –
отросток рудиментарный,
остывшее слово «совесть»,
стоп-кран,
за который не дернешь
без штрафа и мордобоя?
О! совесть.
Вулкан потухший!
Родник с болотною вонью!
Клыкастый нарвал,
который
остался лишь в Красной Книге!
Какое же счастье все-таки,
что утром и часы похмелья
ты иногда приплываешь
к нашему Острову Смерти.
9
Я глянул в иллюминатор.
Внизу собирались тучи,
как женщины на толкучке
с авоськами серой ваты
Ветер их косные речи
превращал в кошмарные слухи.
Слухи были бессвязны.
Но они походили па правду,
которую знал мой летчик.
А я в этот миг подумал:
как славно не знать всей правды!
Спокойно себе работать
и выступать па собранье
в защиту Анджелы Дэвис,
к супруге ластиться ночью
и вмазывать после получки!
Как славно стучать в костяшки
или крутить свой кубик,
смотреть «Огонек» на праздник,
ходить на блины к соседу,
жену его тискать в кухне!
Как славно блевать в туалете,
на тещу лезть с кулаками
и спать не давать детишкам!
Плевал я на бездуховность!
Мне славно.
И что там этот –
как его?
Остров Смерти!
10
Я выпил последнюю каплю,
закусив ее мануфактурой,
как привык поутру в подъезде
или танком на работе…
И с этой последней каплей
кончилось тяготенье
между Землею и мною.
Я улетел в Пространство.
Нет!
Это было Время.
Черной, холодной рекою
оно обтекало Остров…
Нас привезли на барже
буйных, непокоренных.
Бросили куль с мукою
и, торопясь, отплыли
Следом уплыли крысы,
проклятый остров покинув.
Ты все еще смеялась,
в освобожденье.
Времени сколько пролилось!
Мы уж родились снова.
Снова нашли друг друга.
Дочь молока просила.
Люди траву жевали,
рвали последние листья.
Голод был жутким и гневным.
Женщины руки скрутили
мне и еще двум людям:
нам это было нужно
больше всех залупаться,
правду искать на болоте,
в вони и грязи сиблонской.
Силы у баб недостало
камнями пас прикончить,
или загрызть зубами,
иль на суках повесить.
Дети еды просили –
что было дать им, бедным!
О, ты, кремлевский ворон,
льющий в бокал цинандали,
ты ведь их стоны слышал?
Иль ты во сне ни видел,
как отрезали груди,
чтоб накормить детишек,
женщины-островитянки,
как истекали кровью,
как умирали трудно?
Видел!
Конечно, видел.
Будто проснулась совесть
иль испугался Бога –
только па миг, случайно.
Ты приказал сатрапам
катер пришить с едою.
Люди, увидев катер,
в реку толпой полезли.
Были они похожи
на мертвецов из Ада.
Глупые лейтенанты
и новеньких портупейках
островитян испугались.
Катер назад подался.
Снова приказ.
На этот
раз
налегке плыл катер.
Только у пулемета
двое бойцов стояло…
Время омыло Остров.
Крысы назад вернулись.
Души взошли душицей
и золотым зверобоем,
красно-лиловым кипреем.
Мы уж опять родились.
Снова друг друга любим.
Умер великий Кормчий.
Кости его в покое
Люди не оставляют
Спал я, к окну прижавшись.
Снились твои мне руки.
9…
«Семь дам
изящных
в платьях замшевых
садятся
в благостный
президиум…»
СОВРАНИП В Н-СКОМ РАЙОНЕ
Семь дам изящных в платьях замшевых
садятся в благостный президиум.
Но не затем, чтоб выдать замуж их
нам демонстрируют их вид и ум.
Тогда к чему же этот юмор нам:
раз Перестройка, больше прозы бы!
Ведет собранье Балла Юрьевна,
не я и дивной замше – бледно-розовой.
Коллеги – в серебре и золоте.
Муж за такое не расплатится.
Тут я записочку: «Позвольте, мол,
узнать, где доставали платьица!»
Ну, как пришла мыслишка рыхлая!
Взялась откуда смелость шпанская!
Тут Громаковская как вспыхнула:
«Парторг, мол, а душа мещанская.
Мол, весь народ твердит о гласности,
а пи свое: распределители!»
Так подала, что мир – в опасности,
что в нем опять кишат вредители.
В углу поник. Прижался. Стыдно мне
Ну, кто, скажите, Гомо Гомини…?
Уж лучше где пибудь за Тындами,
уж легче было бы в дурдоме мне.
ЦАРЬ ГОРОХ
«Когда это было?
При царе Горохе?…»
Царь Горох был не плох.
Он, конечно, был не Бог.
И зачат он был не Богом.
Но таких теперь немного,
скажем прямо – с гулькин куль!
Говоришь: «Горохов культ»?
Ну, а как тогда без культа?
Поживи, попробуй, – хрен-то!
Тоже мне нашелся тип!
Не было альтернатив!
Вынужден был смердов тискать,
ведь угрозе Византийской
надо противостоять.
Жил наш царь Горох на ять:
пил бадьями саперави.
Скажем так: гуманно правил –
кукурузу не сажал,
рать и знать не обижал,
не менял гимны и флаги.
Правда, были и ГУЛАГи.
Ну, а как без них тогда?
Это вам легко, когда
Ускорение и Гласность
В те ж века – одна опасность:
там Хазарин, туг Варяг.
Византия – злейший враг.
Кормчий был – на сто процентов.
Нет, не говорил с акцептом,
даже трубку не курил.
И не Сталин что был.
Не люблю я аналогий.
Путь истории пологий,
а бывает, что и крут.
На Гороха с юга прут.
Договоры подписали,
целовались на вокзале,
честно слали сноп шеляг…
Заалел Хазарский шлях.
Мужикам срубают главы,
И на баб кругом облавы
задирают подолы.
Портят нацию, коблы!
Ни ракет нет, ни снарядов
Чем же бить нам хинских гадов?
Царь наставил там и тут
Заградительных отрядов –
вои русские бегут!
И взмолился пред народом
(не был все ж Горох уродом!).
А народ ему: «Скорей
выпусти богатырей!»
Отыскали их нескоро.
Вышли дюжие комкоры,
святым мужеством горя,
закричали: «За царя!»
Начал Грек амикошонство:
шлет яичный порошок свой
кораблями через Понт.
Мол, открою второй фронт.
Мы теперь, мол, не абреки.
И Варяги лезут в Греки –
то ли в Киев, то ли в Суд
шапки-мурмолки везут…
Загалдев, как на базаре,
гнусно дрогнули Хазаре,
бросили и фронт и тыл.
Царь Горох вошел в Итиль.
Кончилась лихая сеча.
Царь вернул народу Вече
и свободу говорить
(только чтоб умерил прыть!),
отпустил людей несметно,
всех врагов простил – посмертно.
Может, было что не враз.
Тут и я кончаю сказ.
ПОСЛЕДНЯЯ РЕЧЬ ТОВАРИЩА ЛЕОНИДА ИЛЬИЧА БРЕЖНЕВА
Вождь охотился порой –
бил картечью в злую роту.
Вот и я, Ильич Второй,
тоже езжу на охоту.
Мне скота к столбу привяжут –
я поднять себя прошу
и палю, не целясь даже,
только речь произношу:
«Дорогой товарищ Лось!
Что-то есть в тебе оленье…
Я тебе стреляю в кость
с чувством воодушевленья!»
Сам придумал этот спич –
не держу в руках шпаргалку.
Говорят: природу жалко.
Но ведь я – второй Ильич:
В орденах и звездах грудь –
как-никак глава народа.
Пусть послужит нам природа..
После нас – хоть лунный грунт!
«Дорогой товарищ Лось…
и т. д.»
Пока есть икра и крабы,
надо кушать, поспешать.
Продовольственной программы
на Том Свете не решать.
Впереди – застой и спиды.
Миру мы не по плечу.
Сын мой, Юрий Леонидович,
может, ты толкнешь речу?
«Дорогой товарищ Лось…»
Что-то я стреляю вкось.
Поскорей врача!
Врача!
Бал окончен.
Ча-ча-ча!
ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ
Говорят, что ходят по Тамбову
бледные абстрактные пришельцы –
у обкома кланяются Богу
и собак ласкают против шерсти
Твари понимают их бессловно,
а моя бескрылая соседка
(от пайков и юбок многослойна)
говорит: во всем вина Лысенко!
По мемориальцам ходят палки:
экстремисты ведь они, не люди!
А народ гутарит, что Абалкин
тоже вроде прилетел на блюде.
То ль от бутербродного эрзаца,
то ли от селедки ивасевой
я узрел вдруг снежного мерзавца
с дикою бригадою по селам.
Может, этот резаный царевич
нас водил по непутевым трактам?
А в окне – осмеянный Малевич,
черным заколдованным квадратом.
ГЛУХОНЕМАЯ РАПА
Никто в совхозе не работал,
а всякий лишь качал права.
Одна безмолвная Рапа
на поле обливалась потом.
Ни зуботычиной, ни штрафом
совхоз немтырку не тянул.
Конечно, умственности – нуль,
зато силенка – что твой трактор.
Ей то конфеточку, то вымпел…
Она в ответ: «Рапа! Рапа!»
Какого дивного раба
социализм дебелый вывел!
Директор редко был тверезый,
но и тогда стоял горой
за свой непобедимый строй.
И в голове рождались грезы:
оклады, звезды, ордена.
От поздравлений нет отбою…
Он сам давно уж стал Рапою.
И мне его судьба дана!
МУДРОСТЬ
«…яко утаил еси
от премудрых и разумных
и открыл еси та младенцам».
Внизу гудит базар, как муравейник.
А в кабинете елочка – как веник.
Директорша – красна, как колбаса.
И все же в ней какая-то краса
не вытравлена холодом и блатом.
А мудрые идут – сестра за братом.
Брат за сестрой.
Как полчища акул!
Мой друг удобно в кресле прикорнул.
Хитрющее лицо у азиатца!
Хозяева, а как его боятся!
Не скроют от него крапленых карт:
мой друг –
их друг.
Спаситель!
Адвокат!
Теперь, когда живут не по плакатам,
поклонишься невольно адвокатам.
Попавшись где-то в морду или сеть,
директорша песет в коробке сельдь,
а чуть попозже – шесть болгарских «Лечо».
Базар и магазин гудят, как вече.
На лестнице – скопление акул.
Им подают в газетных свертках кур.
Губастые, зубастые акулы –
такие, не страшась, пойдут под пули
за шпроты иль за «птичье молоко».
Мой друг не вдруг снимается легко.
Мы в магазине, где гуляет ветер
п женщины доверчивы, как дети:
что есть, в авоськи синие берут.
И адвокаты не бывают тут.
СТАНЦИЯ ЧОП
Меняют колеса
на станции Чоп.
И колер волос
поменяли еще б!
И вздернутость носа,
и розовость щек!
Наш поезд проворно
берут на закорки.
Европа впустила
к себе на задворки
небритых, прибитых,
до ужаса кротких.
Там в лавке без давки
колбасы и шмотки.
Там бабы без лифчиков,
в юбочках узких –
с размаху в туристов
влюбляются русских.
Но, стойкие, мы
не допустим ошибку.
Отлуп им устроим,
идейные шибко.
Темно и волшебно
на станции Чоп,
где светит прожектор,
как огненный черт.
И шепчет инспектор:
«А как там насчет?..»
«Водчонки?»
И сам бы я выпить не против.
Трясут африканца
в вагоне напротив.
И сыплются доллары
из-под жилета.
И рожа у старца кисла, как
котлета.
Снимают несчастного
грешника грека
за то, что провез
в чемодане Эль Греко –
того Доменико
Теотокопули.
Друзей моих тоже
слегка тряхонулп.
Гадаю на кубике:
чет иль нечет?
Меняют колеса
на станции Чоп.
ВРЕМЯ
(Читая Бориса Поршнева)
«Се уже мимо ходит время…»
Время –
будто ватное,
облака угарные,
на импортном ватмане
чертежи бездарные:
зиккураты татлиных,
весненых трубы…
И святых статуй,
а под ними трупы.
Декабрей – рели.
Феврали лишние.
Подними, Время,
ноги прилипшие.
Шевели руками,
подтяни джинсы.
По векам каменным
вновь пробежимся!
Только что толку
жить так сот восемь.
Дураков-геронтологов
средь камней бросим!
Бабами-бонзами
пусть из почв лезут.
А нам не и бронзовый.
Даешь железо!
Выкопали черти
мечи да орала.
Времени – без четверги,
а людей – орава!
Может, и по люди,
а дети Шивы.
Через час будем
шиковать в машине:
колбасой, хеком
набивать утробы.
А там – и ракеты!
Атомы с нейтроном.
Встанешь утром
бегают по, небу
мудрые компьютеры
«Сделано в Японии»!
На все прения –
сто тридцать вторая!
Не запрешь Время
в старом сарае.
ЗАКОН ВЕРНАДСКОГО
Обмахивают позы
от пыли ветхих фраз,
вытряхивают розы
из пожелтевших ваз.
А старый мир как раз
вытряхивает мусор
отживших биомасс.
Но постоянство массы
уже закон не нов:
то умный народится,
то девять дураков,
то пара динозавров,
то куча пауков!
Позевывает сонно
в конурке старый пес.
И нем та же рибосома,
что в сонме Псовых звезд.
Он так же полусогнут
и так же крутит хвост.
За стол на службе сяду
иль выйду в магазин –
везде снует десяток,
где справится один.
Всего у нас достаток
самих себя едим.
ВЫСТАВКА ПИКАССО В МОСКВЕ
Привыкнув к сварам и убийству,
мир жадно тянется к кубизму,
спасенье в кубиках ища.
Такая очередь у кассы.
Неужто древний дон Пикассо
не измельчал,
не обнищал?
Теперь любой его период
не обругают, не отринут.
Бродя по залам без забот,
чтоб знать названия хотя бы,
глядят кубические бабы
на «Королеву Изабо».
10…
«Что есть истина,
что есть правда?»
ПЕСНЯ ШАРМАНЩИКА XVIII в.
Что есть истина,
что есть правда,
ты скажи мне, шарманка,
уважь!
Иль царева звезда-награда?
Иль царицы шальная блажь?
Обернется богатство
прахом,
стихнет славы
копеечный звон.
Лиходеи пойдут на плаху.
Дуракам – не писан закон.
А закон тот – пустое слово,
лыком вязанная строка.
Лиходеи родятся снова,
дураки не умрут века.
Правит памп царица-мамка.
Слава ей –
гуды ее мать!
Ты уважь,
ты скажи, шарманка,
где нам и ранду спою
искать!
КОТ В САПОГАХ
(Песни к спектаклю)
1
Песня Кота
Мышонка не поймав во век,
лежит беспечным Человек,
траву примяв.
За что ему такая честь –
из блюдечка
сметану есть?
Как вкусно!
Мяу!
Совсем иная честь Коту –
ловить объедки на лету.
и кости грызть.
На стол залезет
бедный Кот,
кусочек лакомый найдет –
и слышит:
Брысь!
Но мудрые кошки
и роскошной одежке,
усердно хвостами юля,
склоняют загривки
и белые сливки
лакают у ног Короля.
Нарядный, обутый,
придешь к Королю ты,
мои добрый,
прекрасный Маркиз.
С галантным поклоном
мы станем у трона.
И скажет Принцесса:
Кис-кис!
2
Дуэт Мельника и Хозяина Осла с Хором
Мельник:
Пора безумных донкихотов
безоговорочно прошла.
Ломать им копья не охота –
и мельница моя цела.
Поспели тыквы в огороде,
коза гуляет под окном.
Давай-ка, братец, в хороводе
попляшем нынче да споем!
Хозяин Осла:
Отец оставил мне немного.
Но я надеюсь на доход.
Ослам везде у нас дорога,
Ослам везде у нас почет.
Смотрите, милые красотки,
какие я купил штаны.
Осел мой – парень очень кроткий
Он верный сын своей страны.
Хор:
Приятно с вами жить в соседстве –
Мешки на мельницу таскать.
Во всем великом королевстве
таких красавцев не сыскать.
Нам хорошо в деревне нашей,
хоть деревенский труд тяжел.
Пусть крылья мельницыны машут
и будет сыт любой Осел.
3
Песня Принцессы
В камзолах и латах
в дворцовых палатах
толпой женихи собрались.
Глупцы и невежи!
Ах! Где же он,
где же,
мои милый,
прекрасный Маркиз?
Пусть он безоружен,
без лаг и без кружев.
Пусть жизнь
его бросила вниз.
Пусть даже промок он
и пусть без сапог он –
он самый прекрасный Маркиз!
4
Вторая песня Кота
Мой добрый хозяин
в беде и печали
в наследство Кота ему
рыжего дали.
Вот если бы Мельница
или Осел!
Как быстро тогда бы
он в гору пошел.
Но –
если умом
пораскинуть немножко,
в хозяйстве годится
и рыжая кошка.
Остались они,
а не ты в дураках.
С тобою не кошка,
а Кот в сапогах!
На радость
бесчуственным братьям-подлизам,
мой добрый хозяин,
ты стянешь Маркизом.
Исчезнут мозоли
с обветренных рук.
С тобою не кошка,
а верный твой друг!
ПЕСНЯ
Небо вымазано в синьке,
звезды – словно денежки
Что ж поете через силу,
красивые девушки?
На крут бережок,
во темной бор ли
не придет ваш дружек
золотой Орлик.
Света нет в очах,
крылья оборваны.
Разберут девчат
воробьи, вороны.
С неба месяц спустил
золотую лесенку.
Больше петь негу сил
веселую песенку.
ПРИНЦЕССА ТУСНА
(Песни к кукольной пьесе)
*
И звезды на небе потухли.
И месяц над крышей поник.
К принцессе красивенькой Тусне
посватался грозный жених.
Сломала вишневую веточку.
Стоишь,
лепестки теребя.
Принцесса!
Принцессочка!
Как жалко тебя!
Ждала себе счастья на блюдечке
с каемочкой золотой.
Подумаешь! Стерпится – слюбится.
А я – королева зато.
В конце концов
это замужество.
И сколько идет не любя
Принцесса!
До ужаса
мне жалко тебя!
Ах, эти коварные барышни!
За каждою прячется черт.
Смотри, как тоскует на башне
возлюбленный твой Звездочет.
Подзорная трубочка
без дела лежит.
– Опомнись, дурочка!
– Ах! Отвяжись!
Хор
За что гибнем и горим?
Вместо масла маргарин
в лавках.
Нет ни чаю, ни конфет.
В каждой бане и кафе –
давка.
За что проливаем кровь?
За какую-то там любовь!
Мымра!
Не желаем воевать.
Дайте нам вкусить опять
мира!
Дайте чаю и конфет!
Дайте каждому обед
вкусный.
Нам что ангел, что урод.
Пострадай-ка за народ,
Тусна!
Хорошо вам там, вверху:
жрете черную икру
вдоволь.
А мы пропадаем тут.
С утра до ночи ревут
вдовы.
Собирайтесь, молодцы,
жгите школы и дворцы.
Кроме
кандалов ведь и тюряг
нам тут нечего терять.
Крови!
11…
«Что вы читаете,
принц? –
Слова, слова,
слова…»
В. Шекспир
ЗВУКИ
Язык –
это слов драгоценные россыпи.
Только они
что-то и значат:
«Что вы читаете, принц? –
Слова, слова, слова…»
Но
как прекрасны
составляющие слов —
красное А –
упругое,
как резиновый мячик,
зеленое У –
вытянутое, как пальма,
синее И –
нежное,
как воздушный шар,
желтое О –
как молодой подсолнух.
О серебряные сопоры
Р и Л!
О синее Н,
вырезанное из фольги.
О коричневые Г, К, X:
первое –
из гладкой кожи,
второе –
из замши,
третье –
ласковый бархат.
Мы бежали на Волхонку
слушать, как звучат
вырезанные сепаратором звуки,
В отдельности!
Одинокие робинзоны
трещали,
щелкали,
гудели.
Они не походили на то,
что мы о них думали,
как Свифтовы еху
не походили
на сапиентных людей.
Но это была
чистейшая правда о звуках –
фонемах,
как назвал их
профессор Высотский.
И тогда мы поняли,
что не Человек –
единица разумной Вселенной.
а только
нее Человечество разом.
А еще мы услышали
крик Человека
монолог Гамлета.
И его
никто не произносил.
Это было
совершенное чую.
Отсюда было
совсем недалеко
до синтеза первой фразы:
«Да будет свет!»
РУССКИЕ ДИАЛЕКТЫ
Русские диалекты –
не отклонение.
Это – озарение.
Это – от волнения
окающие напевы
русских поморов,
обиженная,
кувшинообразная речь волжан.
И строгий разговор
москвичей.
И чагоканье
горластых рязанок –
у каждой
за спиною кошелка.
И комкающий выговор
смоленских дикторов радио.
И серебряное цоканье
на земле
Господина Великого Новгорода.
И сосредоточенность речи
сибирских чалдонов.
И разухабистость песен
сеймских переселенцев,
которые по забытью
называют себя «семейскими»:
семьями-де живем!
Как будто другие
живут иначе.
Русские диалекты –
это языки,
которые не успели родиться,
наследство
языческих времен,
красные языки пламени,
в которых сгорает
языкастая память.
Русские диалекты –
изгои,
осмеянные невежды,
талантливые неучи.
Русские диалекты –
это то,
что пока не дает
русскому языку
перестать быть русским.
Слава им, русским диалектам!
Вечная им
память!
КТО ТАКИЕ ДИАЛИНГИ?
Название «диалинги»
происходит
от смешения двух слов:
«диалектологи» и «лингвисты»
Диалинги –
это капли-дождинки,
утренние росинки-бусинки,
ягоды бузины-рябинки.
солнца лучи-лучинки,
как конфеты-ландринки,
которые высылались
из блестящей коробки
с золотой картинкой.
Диалинги –
спелые картофелинки
Инкн,
Галинки,
Маринки!
Диалинги –
друзья
чистого неба и леса.
Недаром на них
зеленая форма
и голубые береты.
Они –
рыцари русского языка,
служители
его древлехранилищ.
Искатели.
Собиратели.
Хранители.
Это –
враги речевого маразма,
словесной нечистоплотности,
убогих стандартов
и жалких композиций.
Это –
зеленая поросль
науки о русском языке.
ДИАЛЕКТОЛОГИ
Мы шли промокшие из леса.
Смешались песни и галдеж.
Неугомонный, жесткий, резкий
косил траву холодный дождь.
А мы его не замечали.
И не умаялись почти.
И, будто крылья за плечами,
вздымались наши рюкзачки.
Пас подгонял задорный стих,
недаром взятый на дорогу.
Звала деревня городских
в простой избе пожить немного.
Отведать хлеба с лебедой
и вспомнить, что такое виды.
Она пускала на постой,
она нас молоком поила.
Но удивляли стариков
Программы черствые вопросы.
Им – что-нибудь насчет «еров»,
они – про пашню и покосы,
про неоплатный трудодень,
про то, что хата покосилась,
и некогда поднять плетень,
и что соломку с крыш – на силос!
Прости нас, русское село,
за наши строгие оценки,
за неосмысленное зло,
за обезглавленные церкви,
за ветхость допотопных крыш,
за архаический моргасик,
за твой хмельной «Шумел камыш»
и грубый мат в престольный праздник.
Прости нас, вечных должников,
забывших древние поверья.
Но в зычных окриках гудков
не так легко и нам, наверно.
И в наступлении наук
на косный гнев и сор вселенский
не обойтись без крепких рук
и без смекалки деревенской.
Прости, что мы везем опять
исписанных бумажек гору,
где человеческое горе
сред судеб «ера», «еря», «ять».
СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие
1…
«Такая русская зима на улицах Тамбова…»
Начало зимы («И этот вешний, а не зимний воздух…»)
Зима в Тамбове («За все земные пироги – положенная лепта…»)
«Какая ночь! Исторгнутые недра…»
Скорый поезд («И снова в синеве морозной…») .
«Морозный дым и мишура на ветках…»
Пригородный лес («А здесь еще зима…»)
Утро («Дымок из труб змеист и синегуб…»)
Вселенская родительская суббота («Позатупились стрелы критик…»)
Снегири («На деревьях припущенных…»)
«День мал и летом и зимой…»
Мучкап («Мучкой белого снега…»)
«Сине-розоный сочельник…»
Свиристели («Племя дивных звонки птиц…»)
«Я уходил па левый берег…»
Сугроб («То ли гроб черный, то ли грот…»)
Жемчужинкой («Люблю тамбовские особняки…»)
«Все, что было, показалось мелким…»
2…
«Хочу, чтобы снег вернулся в апреле…»
«Когда в конце зимы повеет…»
Весна («Весна прошла и коротеньком пальтишке…»)
Снег в апреле («Съедам по-свински…»)
Лунный лик и подушках тучных млеет…» ,
Благовещение («Хоть бы капля живого света…»)
«Фонтаны. Подъемные краны…»
«Майский день горяч, несносен…»
Цна («Подальше от цианистой заразы…»)
«На западе бурая дымка…» …
«Пройдя по дороге пыльной…»
3…
«Встали ракеты и звезды,
и лишь соловьи, соловьи…»
Соловьиная ночь («На верхней полке устроюсь…»)
Серебряный вечер («Парчевое солнце и елочный дождь…»)
«Осыпается сирень…»
«Мне грустно от мысли от мысли несвязной…»
Синий пруд («Дождь. Вечер. Словно перламутром…»)
Младшая дочь («Обсевочек мой милый, василек…»)
Фитофтороз («Скажут: время – отличный лекарь…»)
Золотой вечер («На веранде старушки сидят за лото…»)
Корова («Я шел за водой в Горелое…»)
«Сквозь толщу лип блестят огни…»
«Листопад в конце июля…»
Финиш лета («Паучьи финишные ленты…»)
«Сто раз в рубашке льдов или нагой…»
4…
«А за окном – октябрьская лазурь
и купола берез позолоченных…»
«Вот и осыпалась береза…»
Очередь за сахаром («Какой художник вдохновенный…»)
Танцующая сосна («Дожди, туманы и заботы…»)
«Ты только пережил грозу…»
Тщетное желание бросить курить («Тупые, бездушные тучи…»)
Туман («Туман. Коричневая жижа…»)
В лабиринте Времени («Как странно быть живым…»)
«Осенью, как и в любое время года…»
5…
«Бежала женщина во тьме –
и тьма за женщиной бежала…»
Женщина («Как по разодранной кошме…»)
«Дождик мелкий и небо хмурое…»
«Однажды… Ты…»
Исламей («Я хотел бы стать кабардинцем…»)
Знаменка («Вы живы будто бы. Я видел вас недавно…»)
«Колдуя, жду тебя в тревоге…»
«Вечерний призрак дня…»
Сонет № 1 («Несладко жить, когда тебя не любят…»)
Сонет № 2 («И снова слов окаменелых штамп…»)
Сонет № 3 («Не предает один лишь Эрмитаж…»)
Сонет № 4 («И, я иду. Иду. Все дальше, дальше…»)
Сонет № 5 («Любимая! Прости мои ошибки…»)
Сонет № 6 («Своей любимой посвятив сонеты…»)
Сонет №т 7 («Их скажешь – и они в словах тотчас…») .
Сонет № 8 («Вот только в дверь давно уж не стучится…»)
Сонет № 9 («Прагматику, тебя увидев, охнуть…»)
Сонет № 10 («Малюсенькая церковь в Теплом Стане…»)
Невостребованное письмо («Какая ложь! Все кончено…»)
6…
«Хочу, чтобы приняло хмурое небо
неясные поэтемы…»
«Горячий полдень. Тени нет…»
Жизнь вчерне («Я жить не успеваю набело…»)
Поэтемы («Теперь не надо просить и стучаться…»)
Рутина («Рутина непреодолима, как тина…»)
Дорога («Жестка и грязна и убога…»)
Фет («Мы говорим: «Не хлебом единым…»)
Нотабене («Поет по мне петух тоски…»)
«Пусть плохо, но я – не иуда…»
Дорога Петофи («Дорога Петефи – такая небольшая…»)
Пушкин («Каким он был, печальный узник…»)
«В делах и ожиданье…»
Я знал, что этот жалкий Ерихои…»
«Распалась связь времен – цепочка слов…»
Я у врагов прощения прошу…»
Лазарева суббота («Благословляю русские могилы…»)
Хижина бомжа («Весь лес изгажен грибниками…»)
Всю жизнь я прожил в рабстве…»
Пятигорск («Шмаляют променады…»)
«Мы привыкли к грустным фактам…»
«Не верь!», «Не бойся!», «Не проси!»
Из Нальби («Безумных дней моих вода…»)
7…
«Забыв, что был рожден рекою…»
Студенец («Забыв, что был рожден рекою…»)
«Дом ломают по соседству…»
Комсин сад («Комсин сад в тумане, и инее…»)
Танец («В длинном коридоре общежитья…»)
Летающие тарелки («По городу бегала старая сплетница…»)
Горельскпн источник («И кажется, что по не гора…»)
Дом № 38г («В подъезде, с вокзальной платформою схожем…»)
Сладкие корни («В Жердевке, в райкомовской хороме…»)
8…
«Дерзких снов возбуждеинаи повесть или окон заснеженный вздор…»
Оранжевый поезд («Дерзких слон возбужденная повесть…»)
Друг Платон («Откуда, друг Платон, идешь один и стонешь…»)
Покаяние Барышникова («В золотой собор Рождестна
Христа…»)
Притча о Лазаре («Не за то Лазарь в рай попал…»)
Осенний переулок («Долго, долго терпела жена…»)
Остров Смерти («Утром, летя к самолете…»)
9…
«Семь дам изящных в платьях замшевых садятся в благостный Президиум…»
Собрание в Н-ском районе («Семь дам изящных в платьях замшевых…»)
Царь Горох («Царь Горох был неплох…»)
Последняя речь товарища Леонида Ильича Брежнева («Вождь охотился порой…»)
Черный квадрат («Говорят, что ходят по Тамбову…»)
Глухонемая Рана («Никто в совхозе не работал…»)
Мудрость («Внизу гудит базар, как муравейник…»)
Станция Чоп («Меняют колеса на станции Чоп…»)
Время («Время – будто ватное…»)
Закон Вернадского («Обмахивают позы…»)
Выставка Пикассо в Москве («Привыкнув к сварам и убийству…»)
10…
«Что есть истина,
что есть правда…»
Песня шарманщика («Что есть истина, что есть правда…»)
Кот в сапогах
Песня Кота («Мышонка не поймав во век…»)
Дуэт Мельника и Хозяина Осла с Хором («Пора безумных донкихотов…»)
Песня Принцессы («В камзолах и латах…»)
Вторая песня Кота («Мон добрый хозяин…»)
Песия («Небо вымазано в синьке»)
Принцесса Тусна
«И звезды на небе потухли…»
Хор («За что гибнем и горим…»)
11…
«Что вы читаете, принц? – Слова, слова, слова…»
Звуки («Язык – что слов драгоценные россыпи…»)
Русские диалекты («Русские диалекты – это не отклонение…»)
Кто такие диалинги («Слово «диалинги» происходит…»)
Диалектологи («Мы шли промокшие из леса…»)
Авторские примечания

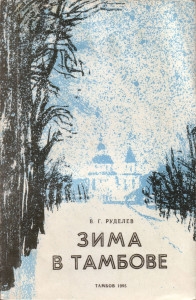

Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: